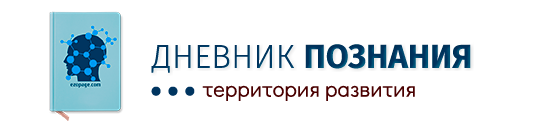Современный мир полон ужасающих примеров того, как обычные люди совершают чудовищные поступки. При этом мало кто задумывается о том, что социальные механизмы и исторические контексты могут способствовать превращению людей в убийц (как было, например, во время геноцида евреев). Немецкий социолог, историк и социальный психолог Харальд Вельцер в своей новой книге «Обыкновенные убийцы: Как система превращает обычных людей в монстров» анализирует сочетание социальных, политических и исторических факторов, приведших к изменению моральных устоев в Германии и к массовому одобрению нацистских преступлений. Книга вышла в издательстве «Альпина Паблишер» в июле публикуем ее отрывок.
«Я полагаю, господа, что вы достаточно меня знаете, знаете, что я не кровожадный человек и не испытываю радости или удовольствия, когда вынужден проявить жесткость. Но вместе с тем у меня крепкие нервы и большое чувство долга — это я могу за собой признать, — и, когда я вижу задачу и вижу необходимость ее выполнить, я выполняю ее бескомпромиссно». Эта цитата, как и другая, более известная, принадлежит Генриху Гиммлеру, и не случайно такие преступники, как он, Рудольф Хесс и множество других, постоянно подчеркивали, что уничтожать людей было неприятным делом, противоречащим собственной «человечности» убийц, но как раз в этом преодолении себя и принуждении к убийству проявлялось особенное качество их характера.
Скрытая бесчеловечность
Здесь речь идет о связи убийства с моралью, и именно связь между осознанием необходимости неприятных действий и чувством, что эти действия, воспринимаемые как необходимые, совершаются против собственного человеческого сопереживания, давала каждому из преступников возможность и в момент убийства ощущать себя «порядочным» человеком, который — цитируя Рудольфа Хесса — «имел сердце» и «не был плохим».
В автобиографических материалах преступников — дневниках, заметках, интервью, если таковые имелись, — как правило, прослеживается один бросающийся в глаза признак. Даже те, кто совершал вещи, явно не вписывавшиеся ни в какие гуманные рамки, тем не менее со страхом беспокоились о том, чтобы в них видели людей не «плохих», а стойких — таких, чья мораль оставалась непоколебимой даже при самых «экстремальных» поступках.
Я хотел бы подробнее описать эту потребность на примере коменданта Треблинки Франца Штангля. Штангль родился в 1908 г. в Австрии и с 1940 по 1942 г. был руководителем клиники эвтаназии в замке Хартгейм, с марта по сентябрь 1942 г. — комендантом лагеря смерти Собибор, а до августа 1943 г. — комендантом Треблинки. В 1971 г. он дал журналистке Гитте Серени подробные интервью о своем прошлом, которые послужили материалом для моих рассуждений. Серени попыталась — как и в своей книге об Альберте Шпеере — раскрыть личность преступника через его отношение к вине. Затея проблематичная, поскольку журналистка предполагала, что преступники в принципе испытывали что-либо похожее на вину. Но интервью Серени со Штанглем очень показательны, потому что в них этот военный преступник пытается показаться журналистке таким «хорошим парнем», каким, видимо, был в своем собственном представлении.
Здесь бросается в глаза мораль надличностной корректности, которая распространяется как на еврея, подавшего жалобу, так и на возможную провинность офицеров-коллаборационистов. «Правильное должно оставаться правильным» — основной принцип действия Штангля, который абсолютно не вписывается в общий контекст ситуации и совершенно оторван от того обстоятельства, что жалобщик, вероятно, был убит в газовой камере еще до окончания расследования Штангля.
В рассказах Штангля речь идет в первую очередь не о жертвах, а о его собственном психологическом состоянии. Эмоциональную вовлеченность по отношению к жертвам он демонстрирует только тогда, когда те уже мертвы, но при их устранении что-то пошло не так: «Они сложили слишком много трупов [в одну яму], так что из-за интенсивного разложения все текло. Трупы вываливались из ямы, катились под гору. Я видел некоторые — боже мой, как это было ужасно».
Будучи комендантом лагеря смерти, Штангль неоднократно сталкивался с такими вызывающими ужас картинами и решал проблему конфронтации с ними — точно так же, как комендант Освенцима Рудольф Хесс, — дистанцируясь от происходящего. Он либо смотрит в сторону и вообще избегает мест убиения («В Собиборе можно было почти полностью избежать этих картин»), либо маниакально ударяется в работу и из-за перегрузок уже не воспринимает того, какие результаты приносит его неустанная деятельность.
Воля убивать
Однако наряду со стратегиями избегания отвратительных аспектов работы интересно и то, какую оценку дает Штангль в интервью моральным аспектам своих действий. Например, пытается на основе выученного в полицейской школе оценить, можно ли считать его причастным к преступным действиям: «В школе полиции нас учили — я хорошо запомнил, это нам ротмистр Ляйтнер постоянно говорил, — что для преступления должны выполняться четыре основных условия: инициатива, предмет, преступное действие и свобода воли. Если один из этих четырех принципов отсутствует, то речь не идет о наказуемом действии. <…> Видите ли, если „инициатива“ шла от нацистского правительства, „предметом“ были евреи, „преступным действием“ — уничтожение, то я могу сказать, что лично с моей стороны отсутствовал четвертый элемент — „свобода воли“».
В своих рассказах, связанных с тем, что он называет «свободой воли» в контексте его зоны ответственности, Штангль демонстрирует, сколь большое значение он придает моральной характеристике своих действий. Стремление отвести от себя подозрение в том, что он лично имел что-то против евреев, играет такую же важную роль, как и постыдная мысль о том, что, будучи комендантом, он допустил некие нарушения.
Например, Штангль излагает жалобу одного только что прибывшего в Треблинку еврея («прилично выглядящий тип»), который пожаловался на надзирателя, пообещавшего ему воды, если тот отдаст свои часы. «Но этот литовец часы забрал, а воды ему не дал. Это же было неправильно, да? Ни в коем случае воровства при мне не было. Я сразу спросил у литовцев, кто взял часы. Но никто не откликнулся. Франц <…> мне прошептал, что, возможно, речь идет об одном из литовских офицеров — у литовцев были так называемые офицеры — и что я ведь не стану при всех позорить офицера. Я ему сказал: „Меня совершенно не интересует, что за форма на мужчине надета. Меня интересует только то, что внутри“. Это сразу же передали в Варшаву. Но мне было все равно. Правильное должно оставаться правильным, разве не так?»
Здесь бросается в глаза мораль надличностной корректности, которая распространяется как на еврея, подавшего жалобу, так и на возможную провинность офицеров-коллаборационистов. «Правильное должно оставаться правильным» — основной принцип действия Штангля, который абсолютно не вписывается в общий контекст ситуации и совершенно оторван от того обстоятельства, что жалобщик, вероятно, был убит в газовой камере еще до окончания расследования Штангля.
Благородный садист
Так или иначе, на вопрос Серени о том, что случилось с тем человеком, Штангль отвечает кратко: «Я не знаю». Контекст массового уничтожения остается для Штангля и его истории совершенно посторонним аспектом. Для него важно то, как выглядело его собственное поведение в конкретных ситуациях, и то, что он сам был против формирования личного отношения к заключенным, как положительного, так и отрицательного. В этом он черпает моральную цельность, которую сам себе приписывает.
По мнению Штангля, его нравственность — по крайней мере, на уровне конкретных действий — несомненна и имеет доказательства, поэтому исполнение других задач, не противоречащих его «свободе воли», не вызывает у него ни малейшего беспокойства.
Тем не менее одна история вызвала у Штангля в интервью Серени явный дискомфорт и волнение, поскольку с ней была связана опасность предстать человеком, действующим из личных мотивов, человеком с садистским характером. Речь идет о свидетеле Станиславе Шмайзнере, который попал в Собибор 14-летним мальчиком и избежал уничтожения, поскольку продемонстрировал навыки ювелира и, очевидно, вызвал у Штангля некую симпатию. Штангль заказывал у него множество ювелирных изделий и иногда, по показаниям Шмайзнера, приходил к нему просто поболтать.
Важную роль в его судебных показаниях сыграло то, что Штангль каждый вечер пятницы приносил ему колбаски со словами: «Вот тебе колбаски, отпразднуй Шаббат». В беседах с Серени Штангль многократно возвращался к этому намеку на его подлость — попытки соблазнить еврейского мальчика съесть свинину именно в Шаббат. Из всех свидетельских показаний во время судебного процесса над Штанглем именно эта история вызвала у него наибольшее беспокойство и возмущение: «Эта история с колбасками намеренно искажена <…> Да, я приносил ему еду, возможно, там были и колбаски. Но не для того, чтобы прельстить его свининой или как-либо поиздеваться на ним. Я же приносил и другие продукты. Наверное, потому что мы сами получали провиант по пятницам и в лагерях всегда было полно еды, у нас оставались продукты. Мне нравился этот мальчик».
Для нашего исследования совершенно неважно, действительно ли Штангль приносил свои дары из какой-то особой подлости, или по доброй воле, или вообще не задумываясь об этом. Примечательно другое: беспокойство у Штангля вызывали не его ответственность за массовые убийства и не тот факт, что он руководил двумя лагерями смерти, а то, что его моральная цельность в личном обращении с конкретным человеком публично ставилась под сомнение.
Оставаться человеком
Серени совершенно правильно отмечает: больше всего хлопот ему доставляло «то, что конкретно он совершал, а не то, чем он был». Однако она видит в этом доказательство «моральной коррумпированности» Штангля и нежелание разбираться «с полным изменением своей личности». Серени полагает, что Штангль, бывший сам по себе цельным человеком, во время процесса уничтожения разложился и утратил моральный облик.
Однако намного ближе к правде был бы обратный вывод: Штангль не испытывал никаких или почти никаких моральных затруднений при выполнении «работы», которую, с его точки зрения, он должен был выполнять, потому что смог вписать ее в систему координат, лежащую за пределами его ответственности. Он не испытывал подобных затруднений и тогда, когда хотел видеть себя «хорошим парнем» — справедливым, деловым, непредвзятым, а иногда даже участливым и дружелюбным (что выходило за предписанные рамки).
Именно поддерживая такую самооценку, Штангль мог без колебаний выполнять свою непосредственную функцию, которая заключалась в умерщвлении огромного количества людей. Перед ним стояла задача, направленная на достижение более или менее обоснованных целей, а себя он видел исполнителем, который всегда готов успешно решать поставленные задачи, но хочет при этом «оставаться человеком».
Штангля угнетает, что кто-то может в этом усомниться; именно поэтому он старается представить свои действия в правильном свете. То, что его моральное разложение не было обусловлено лагерной «работой» — если уж размышлять в таких категориях, — а существовало с самого начала, видно, среди прочего, из того, что за разгрузкой машин с депортированными он наблюдал, будучи одетым в белый костюм для верховой езды.
Сам Штангль объяснял это, во-первых, тем, что из-за плохих дорог предпочитал передвигаться на лошади, во-вторых, тем, что стояла жаркая погода, и, в-третьих, тем, что у портного из соседней деревни, у которого он заказал костюм взамен изношенной формы, была в наличии только белая льняная ткань. Форма же так быстро обветшала из-за многократной дезинфекции от комаров. Когда Штангль рассказывал про это, Серени его перебила и спросила: «Комары наверняка ужасно досаждали заключенным?» На что Штангль коротко ответил: «Не все реагировали на них так чувствительно, как я <…> Я им (комарам) просто понравился».
Можно говорить здесь о полном отсутствии эмпатии или даже о шизоидной необдуманности, но эпизод свидетельствует не о процессе морального разложения, а о несомненно присутствовавшем уже и до этого ощущении собственного превосходства и всемогущества. Поэтому история с костюмом и много лет спустя не вызывает у Штангля ни малейшего беспокойства. Его волновало лишь то, что именно из-за этого костюма он выделялся в хаосе прибывавших машин, так что в дальнейшем его смогли опознать выжившие свидетели — как человека, стрелявшего в толпу.
Автор текста: Наташа Покровская