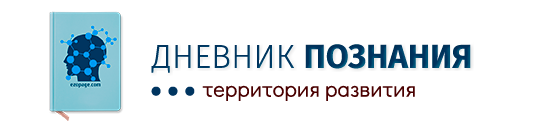Психотерапевт, эксперт лондонской The School of Life Шарлотта Фокс Вэбер выделяет 12 основных желаний, в которых людям сложно признаться самим себе, в частности, — любить, контролировать, стремиться к пониманию, властвовать над другими, быть свободными, побеждать. 
Стремление к свободе часто проявляется в форме протеста или бунта. Мы чувствуем, что нас ограничивают, держат в заточении, подавляют. Это вызывает слепую ярость — такую же, как у малыша, которого пристегивают ремнями к автокреслу. То, что обеспечивает нам безопасность и защищает, одновременно сковывает. Но попробуйте объяснить недовольному малышу, что его пристегивают ради безопасности. Не получится. Его можно разве что отвлечь. С раннего детства ограничение свободы может восприниматься как гораздо более серьезная угроза для жизни, чем любая другая опасность.
Вот что пишет об этом противоречии Эстер Перель: «С момента появления на свет нас раздирают две противоречивые потребности: потребность в безопасности и потребность в свободе. Они происходят из разных источников и тянут нас в разные стороны».
Мы разрываемся между желанием чувствовать себя в безопасности и стремлением к свободе. Признание этого противоречия в отношениях с людьми может помочь обеим потребностям мирно уживаться друг с другом, но люди часто жертвуют одним желанием ради другого, полагая, что возможна либо свобода, либо безопасность, но не то и другое вместе.
С возрастом мы можем либо начать сопротивляться, либо смириться с тем, что связаны определенными отношениями и обязательствами. Если мы выберем последнее (добровольно или отчасти вынужденно), то, наверное, будем иногда тосковать по утраченной свободе. Если откажемся от обязательств — можем и не почувствовать себя внутренне свободными: так лишим себя радости близких отношений, настоящей преданности и значимых переживаний. Если возьмем на себя слишком много ответственности и не рассчитаем свои силы — загоним себя в ловушку, окажемся во власти своих обязательств и обязанностей. Так можно пожалеть о принятом в прошлом решении и задаться вопросом: действительно ли мы свободно выбрали то, что сейчас ощущается как расплата и несвобода?
Что бы мы ни выбирали и от чего бы ни отказывались, мы не можем заранее знать, чем это обернется в дальнейшем. Обязательства часто воспринимаются как выбор, ограничивающий возможности. Они и так ограничены, но принятие обязательств может пробудить фантазии о безграничности нашего потенциала.
«Я не хочу вступать в брак сейчас, но что, если это мой лучший шанс и я его упускаю?» Такой вопрос мне задали недавно. Я регулярно слышу его в разных вариациях. «Если я уйду от мужа, изменится ли моя жизнь к лучшему через несколько лет?» — спрашивают меня. Обязательства — азартная игра. Нарушение их — тоже. Мы не можем наверняка знать, что будет. Обязательства порождают неопределенность, даже если формально обещают предсказуемость и защиту. Невозможно быть уверенным в характере своих будущих переживаний, в том, что изменится, в том, как мы будем себя чувствовать (хотя мы можем питать иллюзии насчет всего этого).
Мы жаждем свободы от определенных проблем и мечтаем о свободе делать то, что нам нравится. Сожалея, что взяли на себя какие-либо обязательства, мы обнаруживаем, что скорбим о свободе, которой почти не замечали, пока она у нас была, и которой теперь жертвуем: о свободе потенциальных возможностей. Мы можем долго размышлять о выборе, который могли бы сделать, или воображать утопическую свободу, которую однажды обретем. Иногда мы обвиняем в своей несвободе других.
Бывает, что спонтанные, незапланированные встречи с соседями, продавцами в магазине, даже с незнакомцами вызывают освобождающее чувство joie. Иногда отсутствие четко оформленных обязательств в дружбе может казаться удивительно безопасным и освобождающим. Мы встречаемся с кем-то не потому, что обязаны, а потому, что оба этого хотим. Но, не имея никаких обязательств, можно оказаться в свободном плавании — и утратить связь с реальностью. Обязательства напоминают нам о наших ценностях.
Экзистенциалисты, в первую очередь Симона де Бовуар и Жан-Поль Сартр, не признавали компромиссов: они безапелляционно и весьма аргументированно отстаивали свободу любви. Они приводили весьма убедительные аргументы. Симона де Бовуар писала: женщин учат, что их единственное и конечное предназначение — встретить свою любовь, но это, во-первых, невыполнимо, а во-вторых, этого недостаточно. Женщины должны упорно трудиться, чтобы добиться свободы, писала она: мы недооцениваем то, насколько трудно она дается и насколько важна. «Увечье в результате подчинения» — так де Бовуар называла то, что может случиться с каждым в отношениях, и это очень точный образ. Независимо от пола, этнической, расовой или культурной принадлежности, сексуальной ориентации и возраста мы можем оказаться настолько поглощенными отношениями, что разучимся быть свободными.
В первые дни романа может казаться, что мы переживаем восхитительное приключение, радуемся свободе познания любимого и новизне ощущений, возможности открывать себя через другого человека, наслаждаться свободным странствием. Но, пользуясь этой свободой, мы часто ставим перед собой цель — принять какие-то обязательства. Мы даем обещания. Ипотека, брачные контракты, религиозные обеты не всегда помогают все тщательно обдумать и четко осознать значение свободы в отношениях. Нам нравится запирать любовь на ключ. Для этого подходят и традиционные обручальные кольца, и другие символические предметы — например, замки, которые влюбленные вешают на мосту Искусств в Париже. (Опасаясь, что под тяжестью сотен замков мост рухнет, работники городских служб регулярно их убирают.) Испанское слово esposa (жена, супруга) буквально означает «наручники, кандалы».
По мере развития отношений мы можем начать замечать, что по-разному относимся к близости и интимной жизни. Возникают разногласия по поводу того, какое решение принять, когда и нужно ли это вообще. Интрижка, брак, свободные отношения, гражданский брак, избегание отношений, увлечение — выбор любой из этих форм отношений, включая отказ от выбора, может угрожать ощущению эмоциональной свободы. Возникают конфликты, связанные с ответственностью и зависимостью. Мы чувствуем, что у нас крадут время, не позволяют принимать решения, лишают нас свободы выбора и потенциальных возможностей. Мы оказываемся заложниками неожиданных обстоятельств.
Некоторые люди воспринимают любую привязанность как угрозу свободе. Забота о ком-то может быть связана с неудобствами, служить помехой независимому существованию. Хорошо, если мы осознаем, что, как бы мы ни были преданы тому, о ком заботимся, какие бы обязательства ни исполняли, важно учиться не сбрасывать со счетов собственную потребность в свободе. Приняв на вооружение широкий и гибкий подход ко всему этому, мы сможем периодически обновлять и корректировать сроки и условия обязательств — независимо от ситуации и возраста.
Моя клиентка Сара, терапевт-стажер и журналистка, пытается отстаивать свою свободу, не позволяя себе отношений. Но такая свобода превращается в заточение. Иногда мы сбрасываем кандалы лишь для того, чтобы надеть новые.
Заточение Сары
Возможность свободно высказываться — одна из привилегий клиента психотерапевта. Сара говорит об этом, когда мы встречаемся. Она родилась в Марокко и росла в Марракеше и Лондоне. Ей 28 лет, она живет одна, работает внештатным журналистом и на полставки стажируется по специальности «психотерапия».
— Программа подготовки предусматривает, что я сама должна пройти курс психотерапии. Поэтому я пришла к вам, — говорит она на первом сеансе.
Если Сара решит пройти курс со мной, наша работа прервется, когда я уйду в отпуск по беременности и родам. Я на шестом месяце, чувствую себя классической беременной, и это очень заметно.
— Когда вы планируете уйти в отпуск? — спрашивает Сара. Я называю дату.
— Если мы будем работать вместе, сможем продолжить после отпуска?
— Разумеется, — отвечаю я (кажется, слишком убежденно).
Я жду второго ребенка — и теперь больше, чем в первый раз, уверена в своих профессиональных планах после родов, как бы трудно ни пришлось. Когда слова уже слетели с языка, я понимаю, что особой надобности так демонстрировать свою убежденность не было. Чтобы смягчить тон, я неуклюже добавляю:
— Пока я точно не знаю, когда вернусь к работе. Но вернусь. До отпуска еще почти два с половиной месяца. Расскажите мне о своей жизни.
Сара смотрит на меня и мило улыбается. Кажется, я напрасно все объясняю так подробно. Видимо, это связано с тем, что беременность доставляет мне неудобства. Мне трудно скрещивать ноги, у меня гестационный диабет, между сеансами надо проверять уровень сахара в крови, и я пытаюсь как-то справляться со всем этим. Я хочу этого ребенка. Я чуть не потеряла его. Продолжать работать я тоже хочу — и пытаюсь убедить себя, что не уволюсь. Но Сара тут ни при чем, и я уже сменила тему.
Мы возвращаемся к делу. Она рассказывает мне о своей учебе, об идеях, которые ей по душе. Эмоциональное освобождение. Приключения без границ.
Когда она рассказывает о книгах, которые читает, я верчусь и ерзаю на стуле. Мне трудно сидеть неподвижно, но мы с Сарой стараемся не замечать этого. Кажется, в неловкой ситуации она не теряет присутствия духа. Психотерапевты-стажеры бывают сложными, но благодарными клиентами. Иногда они сопротивляются, так как проходят терапию вынужденно и беспокоятся о том, как она на них повлияет. Интересно, осуждает меня Сара или демонстрирует свою решимость честно пройти курс?
Мы некоторое время говорим о ее желании стать терапевтом, о том, как оно связано с журналистикой и свободой слова. Она отвечает обдуманно, взвешенно, словно размышляя над каждой фразой. Она внимательно слушает и понимает собеседника — но, кажется, держится слишком серьезно.
— Мне дали форму, которую вы должны заполнить. Вы это сделаете? Так требуют.
— Да, конечно. Я заметила, вы продолжаете уточнять: вы пошли на терапию, потому что от вас этого требуют. А как вы сами относитесь к этому? — спрашиваю я.
— Хм, хороший вопрос, — отвечает она, делая глубокий вдох и обдумывая ответ. — Дело в том, что я никогда не обращалась к психотерапевту, и в каком-то смысле это делает мои затраты оправданными. Это часть моего профессионального роста. Может быть, нехорошо так считать, но я не люблю, когда меня к чему-то принуждают. Я привыкла сама делать выбор.
Она говорит с восходящей интонацией, подчеркивая концы фраз, и они звучат как вопросы. По словам Сары, у нее двойственные чувства насчет свободы и обязательств. С одной стороны, она чувствует себя более спокойно, если есть правила и инструкции, если ответственность перекладывается на власть. С другой стороны, она бунтует и сопротивляется, когда ей указывают, что делать. Она рассказывает, как выбирала профессию, говорит о желании двигаться вперед и жить собственной жизнью, не попадая в ловушку зависимости от мужчины или ребенка. Жить тихой семейной жизнью, по ее мнению, тоска, и, конечно, она ни за что на это не согласится. Она не хочет чувствовать себя с кем-то связанной. Она верит в свободные отношения, хотя вовсе не испытывает потребности постоянно менять партнеров (ох уж эти свободные отношения, говорит она, с их множеством правил и набором верований!). Она кладет ладони на колени. Она хорошо сложена, грация сочетается в ней с силой.
Я выражаю надежду, что Сара понимает: психотерапия дает свободу даже тем, кто посещает ее не по собственному желанию. Так что можно высказываться свободно, без цензуры, без ограничений. Затем я замечаю, что Сара была свободна в выборе психотерапевта. Почему она выбрала именно меня?
— По нескольким причинам, — говорит она. — Во-первых, мне так удобно. Добираться меньше десяти минут. Во-вторых, я читала, что вы работали в Сенегале. Я подумала, что у вас нет предрассудков относительно мусульманской культуры.
В ее голосе звучит уверенность, но на лице отражается нерешительность.
— Сейчас я не религиозна. Но раньше — была.
Она чувствует себя зажатой между двумя культурами и верами.
— Кроме того, когда я написала вам по электронной почте и попросила назначить встречу, вы ответили, что вскоре собираетесь рожать. Вы не сказали когда, но я понимала: сеансы прервутся, если мы начнем работать вместе. Меня это устраивало. Я боюсь долгосрочных обязательств.
Мы говорим о том, как важно на сеансах психотерапии ощущать свободу и не чувствовать, что тебя осуждают.
— Надеюсь, вы не будете осуждать меня так, как осудил бы исламский психотерапевт. Или исламофоб. Было бы хорошо, если бы вы немного представляли себе, откуда я.
Я сдерживаюсь, чтобы не пытаться демонстрировать знания о ее происхождении. Я стараюсь не давить на нее.
— Прошлое — не главное для меня. Я хочу чувствовать себя свободной и обсуждать все, что хочу. Даже если это будет связано с культурой и религией, я не хочу, чтобы это было определяющим. Хочу, чтобы это был мой выбор.
— Вполне понятно, — говорю я.
— Думаю, я интерсекциональна. Интерсекциональность… Часто ли вы слышите это слово? — спрашивает Сара.
— Да. Что вы о нем думаете?
— Я думаю, это обо мне, но я слишком часто слышу его на занятиях по психотерапии. Я чувствую себя… запертой. Страдающей клаустрофобией. Все суетятся вокруг меня. На групповых дискуссиях, везде, во всем, что имеет отношение к расовой и этнической принадлежности, к маргинализированным, социально отчужденным группам. Со мной говорят так заботливо, так деликатно, что становится неловко.
Я спрашиваю почему.
— Со мной обращаются как с ребенком. Я выгляжу как типичная девушка-мусульманка, хотя не религиозна. Я хочу быть психотерапевтом, чтобы помогать людям говорить о том, о чем трудно говорить. О том, о чем они не скажут никому, кроме меня. Я думала, что занятия будут посещать дерзкие, отчаянные люди, которые высказываются без какой-либо цензуры. Я не хотела, чтобы все было тихо и деликатно. Выбрала этот учебный курс, потому что сочла его интересным и требующим смелости. Я представляла себе провокационные, открытые дискуссии. Мне казалось, они будут немного возбуждающими. Ну так вот, мои представления рушатся. На занятия ходят чересчур доброжелательные, сверхделикатные люди. Никто в группе не говорит ничего такого, что могло бы хоть немного задеть меня. Это так пресно.
Сара мечтала о свободе, которую дадут ей занятия, а теперь считает, что другие учащиеся выхолащивают дискуссии ради нее.
— Я не буду ходить на занятия в следующем году, если мое мнение о них не изменится, — говорит она. — Но на наши с вами сеансы — буду. До вашего отпуска. Я считаю, что делаю это по собственному желанию.
Я спрашиваю, что значит для нее свобода в этом контексте. Какое определение она даст?
— Думаю, быть свободной — значит просто быть собой. Чувствовать, что мне позволено быть собой, знаете ли, полностью.
Она говорит о политических правах женщин, за которые боролась, о свободе печати, о женских проблемах в Марокко. Рассказывает о журналистских заданиях, о приключениях, которые были возможны, потому что она не была ничем связана. Внешне она отстаивала свободу. Внутренне — была в полете.
Она говорит, что уехала из Марокко подростком, после смерти матери.
— Мы были как авокадо, из которого вынули косточку: без нее мякоть быстро портится. Мой папа, братья, мы все потеряли голову, когда мамы не стало. Тогда почувствовала, что мне нужно уехать. Не могла там оставаться.
Сара переехала в Великобританию, жила в Западном Лондоне с теткой и двоюродной сестрой. Окружение было не лучшее, но она хорошо училась в школе. Когда у нее началась менструация, она начала носить хиджаб, хотя ни разу не надела его так, как положено.
— Я была религиознее, чем родственницы, сама не знаю почему. В семье никто, кроме меня, не покрывался, но я хотела. С тех пор как Саре исполнилось 14 лет, она всегда вела себя хорошо. Но однажды она поддалась искушению.
— Я сняла хиджаб, — говорит она, и ее глаза загораются. — И?..
— И тогда… Честно, было всякое. Я могла проснуться в чужой постели, в ночном автобусе, во многих ужасных местах. Пила, принимала наркотики, путалась с парнями. Много раз отключалась. Однажды проснулась в поле в пригороде Лондона. Я не понимала, где я. Не помнила, как туда попала, как провела ночь. Мне повезло. Я не умерла в канаве…
Она описывает, что чувствовала, когда ее голова была покрыта:
— Я чувствовала, что я в безопасности, что со мной не случится ничего плохого. Получала хорошие отметки. Ни с кем не путалась. Никакого алкоголя. Ничего. Никогда. Ни за что. В хиджабе я не могла сделать ничего плохого. Это было… просто невозможно.
В каком-то смысле хиджаб защищал Сару и от нее самой, и от внешнего зла. Я спрашиваю ее о времени, когда она носила хиджаб, и о смерти ее матери. Был ли хиджаб переходным объектом, позволявшим ощущать себя под опекой матери или отказываться от него?
— Похоже на то, — говорит Сара. — Но я знала, что вы об этом спросите. Может быть, хиджаб ощущался как символ власти и защиты. Материнской защиты. Но в то же время мне не нравилось носить его постоянно, и я снимала его. То надевала, то снимала. Это было как день и ночь.