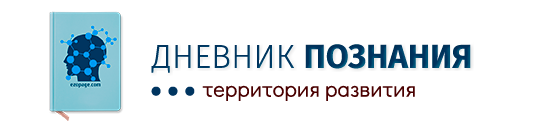«Боялись так же и того же»: как изменились страхи с античных времен и почему тревожность так трудно контролировать»
Люди всегда чего-то боялись. Иногда страх помогал выжить. Иногда — мешал двигаться вперед. Участники дискуссии «Беседа о страхе» — журналист Фекла Толстая, психолог Дмитрий Леонтьев, социолог Лев Гудков и филолог Андрей Лебедев — поговорили о том, что такое страх с точки зрения психологии, попытались проанализировать, как понятие страха трансформировалось во времени в разных культурах, и выяснили, что говорят о страхе современные социологические исследования. T&P публикуют конспект их дискуссии.
Античность: «Страх — душевная боль от ожидания зла»
Андрей Лебедев: «Эмоция» по-древнегречески — πάθος, «пафос» в русской транскрипции. На Западе это слово передается как «патос», поэтому «пафос» и «патология» — однокоренные слова. Такова классическая терминология IV века, лексикон Платона и Аристотеля.
Единой точки зрения на феномен страха у античных философов не было, но все они противопоставляли эмоции (страсти, чувства) разуму. В трактате «Никомахова этика» Аристотель решил реформировать общепринятую бинарную систему различения добра и зла, хорошего и плохого, и заменить ее троичной. Обычно мужество противопоставляется трусости, щедрость — жадности и т. д. Аристотель же говорил, что избыток мужества тоже становится пороком, безрассудством и дерзостью. Добродетель — нечто среднее, некий баланс между двумя полюсами. Страх Аристотель определяет как душевную боль от ожидания зла, но также замечает, что страх бывает и позитивным — например, следует бояться позора.
В «Поэтике» Аристотель излагает теорию трагического катарсиса, которая была в том числе ответом Платону, считавшему, что поэзия развращает молодежь.
По Аристотелю, поэзия не распаляет страсти: именно через страх и сострадание происходит очищение души, то есть трагическое искусство обладает психотерапевтическим действием.
У Эпикура противоположное мнение: он считает, что страдания коренятся именно в страхе, а люди больше всего боятся двух вещей — смерти и загробного воздаяния. Но смерть не страшна, потому что она «не имеет к нам никакого отношения, так как, пока мы существуем, смерть еще отсутствует; когда же она приходит, мы уже не существуем».
Психология личности: «Страх — это стоп-сигнал: уноси ноги, пока не поздно»
Дмитрий Леонтьев: В отличие от Древней Греции, где все было разложено по полочкам, сейчас у нас скорее иррациональное восприятие страха. Страх — это подавление разума, сильная эмоция, связанная с механизмами, выработанными во время эволюции. Это стоп-сигнал: уноси ноги, пока не поздно. Конечно, с таким биологическим наследием трудно справиться с помощью какого-то здравого рассуждения — хотя бы потому, что сам механизм страха создан, чтобы это рассуждение отключать, когда не до него.
Отрицательные эмоции важнее положительных, потому что они могут нас спасти.
Есть исторический анекдот из книги австрийского психиатра Виктора Франкла на тему преодоления страха. В германских окопах Первой мировой войны офицер-пруссак подшучивает над своим старым другом, военным врачом-евреем: он так трясется от страха, что это вроде как лишнее доказательство превосходства арийской расы. На что его друг отвечает: «Посмотрел бы я, где бы ты уже был сейчас, если бы боялся так, как боюсь я». С одной стороны, есть эмоция, а с другой — то, как мы к ней относимся, как мы с ней справляемся и что мы можем делать, несмотря на нее.
Один подход — вообще исключить страх. Это безбашенность, граничащая с безумием. Вторая модель поведения — действовать наперекор страху. Но одни люди легко справляются с эмоциями и руководствуется разумом, а кто-то не в состоянии с ними совладать. Однажды в интервью Григорий Померанц вспоминал, как в 1941 году его и других студентов-первокурсников из ИФЛИ отправили на фронт защищать Москву. Он рассказывал об этом ужасном чувстве, которое испытали молодые студенты: они одни в открытом поле, а сверху на них валятся десятки тонн раскаленного металла. Сплошной ужас, желание исчезнуть, зарыться, перестать существовать. Выстоять и преодолеть страх им помогла философия, которую они еще вчера проходили на университетской скамье. Благодаря ей они нашли точку опоры, не зависящую от внешней ситуации.
Уже упоминаемый мной Виктор Франкл разработал метод борьбы со страхами, который называется «парадоксальная интенция». Человеку нужно отнестись к ситуации с юмором и пожелать того, чего он больше всего боится. Общая стратегия борьбы со страхами только одна — идти им навстречу. В этом смысле сложнее бороться с тем, что мы не можем контролировать — например, других людей, наших близких. С тревогой невозможно справиться: это сигнал того, что в будущем есть неопределенность. В итоге меньше страха у того, кто что-то предпринимает, а не бездействует.
В машине, едущей по серпантину, больше боится пассажир, а не водитель.

Современная российская социология: «Я — часть России, Россия будет стоять тысячу лет, поэтому я могу не думать о собственной смерти»
Лев Гудков: Самые интересные данные в социологических опросах мы получаем, когда спрашиваем людей об их настроении. Если замерять этот показатель 30 лет подряд, то получится любопытный график, в котором особенно интересны те свернутые состояния, в повседневном языке обозначаемые как эмоции: страх, отчаяние, одиночество, зависть, доверие, любовь и проч.
Обычно выделяют несколько типов страхов. Первый тип — страхи, которые можно связать с конкретной причиной, состоянием или ситуацией. Второй тип — диффузные страхи, неопределенная тревожность, панические состояния, не связанные ни с какими факторами. Можно выделить и третий тип страхов — экзистенциальные, например страх смерти. И есть еще один, который иногда называют «страхом Божьим». Немецкий теолог Рудольф Отто назвал его нуминозным — это страх перед мистической силой, превосходящей человеческое воображение, перед ней человек чувствует свою ничтожность.
Диффузные страхи тесно связаны с положением человека в обществе, с уровнем устойчивости социальных связей, институтов. Чем более жесткой и авторитарной системой является государство, тем сильнее человек чувствует свою уязвимость, ничтожность, обесцененность, тем слабее его уверенность в завтрашнем дне. Например, во время «крымского синдрома» в 2014–2016 годах был взлет невероятной патриотической гордости, вместе с которой появился и сильнейший низовой страх войны.
Сейчас самый устойчивый страх — за детей и близких. Он определяет горизонт существования многих людей, в первую очередь женщин. На втором месте — страх войны. Видимо, это травма от Великой Отечественной войны, сохраняющаяся до сих пор. Вот почему патриотический подъем актуализирует пласты коллективной памяти, связанные с этим страхом. Дальше идут вполне конкретные социальные страхи: потеря работы, страх бедности, снижения уровня жизни, страх остаться в старости одиноким и т. д.
Если говорить о динамике страха, то, конечно, высокий его уровень у нас был в начале 1990-х годов. Затем он постепенно снижался и снова поднимался в ситуациях социальной неопределенности. Поэтому следующие пики страха — это кризис 1998–2000 годов и 2012–2013 годы: неудача протестных настроений, отчаяние и рост ксенофобии и этнической агрессии. Сегодня наше общество слабо понимает само себя и живет, закрываясь от нынешнего состояния отчасти с помощью пропаганды, отчасти через утешительные мифы о величии и духовности России.
Дмитрий Леонтьев: Парадоксально, но определенных страхов в российском социуме сильно не хватает. Например, надпись «Можем повторить» означает, что у человека отсутствует страх того, чего на самом деле нужно сильно бояться. Есть такая премия Дарвина — ее выдают людям, сделавшим глупости, которые привели к их собственной гибели и тем самым способствовали естественному отбору. Однажды в Сети я выловил анонимную фразу: «Одни боятся революции, другие контрреволюции, но случилось еще более страшное: началась контрэволюция».
Люди боятся того, что было, и не боятся того, чего не было. Мы все боимся прошлых опасностей и не в состоянии представить себе то, чего надо испугаться сейчас.
Страхи, относящиеся к проекции на будущее, в психологии называются тревогой. Слово Angst, которое ввел в язык Мартин Лютер, — это не страх чего-то конкретного, а страх перед Божьим судом, это некоторое непонятное ощущение тревоги: а правильно ли я живу, все ли так? Одна из популярных и относительно новых теорий в психологии — теория управления страхом смерти (terror management theory. — Прим. T&P). Она исходит из идеи философа Эрнста Беккера о том, что человек — единственное существо, осознающее свою смертность, и многие наши действия мотивированы желанием избежать этого осознания. Один из механизмов, с помощью которого мы убегаем от мыслей о собственной смерти, — это патриотизм, идентификация с чем-то, что больше нас и что не прекратится: «Я — часть России, Россия будет стоять тысячу лет, поэтому я могу не думать о собственной смерти». Так работают многие механизмы коллективной идентификации.
Андрей Лебедев: Что касается древних греков, то я думаю, что боялись они точно так же и точно того же: страшились войны, беспокоились за детей.
Лев Гудков: Со временем меняется интенсивность страхов, их типы в разных странах представлены по-разному. В некоторых культурах высок страх подорвать репутацию, не сдержать слово. У нас его нет, зато есть окаменевший страх перед государством, идущий из советских времен. Страху такого рода учатся в процессе социализации, это навык приспособления и выживания.
Дмитрий Леонтьев: Есть у нас один специфический страх: «Как бы чего не вышло». Но нет страха, что ничего не выйдет.