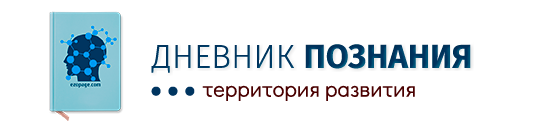Наша двойственная природа обусловлена тем, что в самой природе есть двойственность, именно из природы рождается то, что мы называем добром и злом

Наша двойственная природа обусловлена тем, что в самой природе есть двойственность, именно из природы рождается то, что мы называем добром и злом / Иллюстрация: MidJourney
Являются ли люди моральными обезьянами и как связано природное и духовное в человеке? Объясняя этику немецких философов Канта и Гегеля и анализируя теорию известного зоолога Вааля о наличии эмпатии у приматов, автор Дискурса Игорь Саблин рассказывает, какие парадоксы вытекают из разделения мира на эмпирический и мысленный, почему Гегель считал человека злым по природе, какие эксперименты современных ученых говорят о нравственности у животных и откуда на самом деле может рождаться добро и зло.
Чуть больше года назад вышла книга известного приматолога Франса де Вааля «Наша внутренняя обезьяна». В некотором роде это продолжение и конкретизация его более известной книги «Истоки морали».
Полное название книги «Наша внутренняя обезьяна. Двойственная природа человека» говорит о том, что Вааль сквозь призму поведения обезьян рассматривает человеческую природу в ее неоднозначности: добро и зло, эгоизм и альтруизм, конфликтность и миролюбивость. Но добавим от себя, что двойственность природы человека еще состоит в том, что он не только природное, но и культурное существо. Культура есть нечто возделанное, воспитанное. Но что в данном случае воспитано? Природа. То есть можно говорить, что у человека не двойственная природа, а раздвоенная, и делится на собственно природную часть, которую условно можно назвать животной, и воспитанную, то есть собственно человеческую. Эти природы в реальности нераздельны, но аналитически их можно разделить.
Вааля можно критиковать за то, что он не знаком с историческим материализмом, его перенос поведения обезьян на поведение человека без опосредующих звеньев неправомерен. Все это будет справедливо, но скучно. Мы же попытаемся посмотреть, что дает ваалевский материализм для понимания этических проблем.
Идея о том, что человек — природное существо, вроде бы простая как три копейки, но тем не менее даже самые блестящие умы в своих философских исканиях задвигали эту мысль на второй план либо же вовсе ее аннулировали. Когда философы думают о добре и зле, нравственности и безнравственности, то есть о высокодуховных категориях, идея в природности человека уже не кажется столь очевидной и нужной для этической проблематики. Раз категории духовные, имеет ли смысл искать их в природности человека? Очень многие мыслители отвечали на этот вопрос отрицательно. Что из этого выходило и что может дать взгляд простого приматолога, когда величайшие философы вроде Канта и Гегеля заходят в тупик, мы попытаемся выяснить в этой статье.
Кант: делать добро из любви к людям — не морально
Кант и Гегель, будучи идеалистами, несколько недолюбливали природу, последний, по шутливому выражению Фейербаха, сослал бедняжку в примечания.
Кант был глубоко убежден, что природа и свобода вещи несовместимые. В природе — лишь власть причинности, никакой свободы там быть не может. Если то, как мы видим мир природы, обусловлено структурой нашего разума, тогда можно утверждать, что мир природы это не всё. Есть непознаваемая «вещь в себе» — ноуменальный мир, в котором законы причинности не действуют. Наше Я живет в двух мирах — мире феноменальном, то есть в мире природы, и в мире ноуменальном — в мире свободы. Отсюда возможность морального поведения человека.
Кант считал, и вполне справедливо, что без свободы об этике и морали говорить бессмысленно.
Если ваше поведение целиком и полностью обусловлено тем, с какой ноги вы сегодня встали, каково ваше пищеварение, не болят ли у вас зубы, довольны ли вы своей работой, не слишком ли вы бедны или, наоборот, богаты, то тогда имеет смысл говорить о психофизиологии, социологии и множестве других наук, но для этики в собственном смысле слова места не остается.
Вы можете вести себя в соответствии с категорическим императивом, но если это обусловлено тем, что у вас просто хорошее настроение, то, по Канту, такое поведение легально, то есть допустимо с точки зрения категорического императива, но не морально. Не морально потому, что в данной ситуации вы руководствуетесь не законом, который свободно дало само себе ваше ноуменальное Я, а лишь настроением, которое в данную минуту совпадает с законом, а в следующую минуту, когда вам наступят на ногу и настроение ваше испортится, может уже не совпадать. Все это мимолетно, преходяще, причинно обусловлено, а потому, с точки зрения Канта, гораздо менее ценно, чем моральное поведение, которое не зависит от сиюминутной обстановки и случайных причин.
Этика Канта столкнулась со многими препятствиями. На одно из них остроумно обратил внимание современник Канта Фридрих Шиллер.
Ближним охотно служу, но — увы! — имею к ним склонность.
Вот и гложет вопрос: вправду ли нравственен я?..
Нет тут другого пути: стараясь питать к ним презренье
И с отвращеньем в душе, делай, что требует долг.
Шиллер высмеивает те парадоксы, которые вытекают из морали Канта. Если я люблю какого-то человека или, допустим, всех людей и поэтому делаю им добро, то, по Канту, я не морален! А вот если я их терпеть не могу, или просто равнодушен, но исходя из категорического императива поступаю должным образом (то есть так, чтобы максима моей воли могла стать всеобщим законом), то тогда я морален. Практический разум, которому Кант задает его собственный закон, как раз на практике и не может осуществить этот закон, как минимум потому, что реальный человек не может избавиться от своей чувственности.

Вы можете вести себя в соответствии с категорическим императивом, но если это обусловлено тем, что у вас просто хорошее настроение, то, по Канту, такое поведение не морально, потому что в данной ситуации вы руководствуетесь не законом, который свободно дало само себе ваше Я, а лишь настроением / Wikimedia
Но и сам Кант в своей полемике с Бенджамином Констаном в работе «О мнимом праве лгать из человеколюбия» доходит до странной казуистики.
«Например, если ты своею ложью помешал замышляющему убийство исполнить его намерение, то ты несешь юридическую ответственность за все могущие произойти последствия. Но если ты остался в пределах строгой истины, публичное правосудие ни к чему не может придраться, каковы бы ни были непредвиденные последствия твоего поступка. Ведь возможно, что на вопрос злоумышленника, дома ли тот, кого он задумал убить, ты честным образом ответишь утвердительно, а тот между тем незаметно для тебя вышел и, таким образом, не попадется убийце, и злодеяние не будет совершено; если же ты солгал и сказал, что его нет дома, и он действительно (хотя и незаметно для тебя) вышел, а убийца встретил его на дороге и совершил преступление, то ты с полным правом можешь быть привлечен к ответственности как виновник его смерти. Ибо, если бы ты сказал правду, насколько ты ее знал, возможно, что, пока убийца отыскивал бы своего врага в его доме, его схватили бы сбежавшиеся соседи и злодеяние не было бы совершено».
То есть, по Канту, если в вашем доме скрывается человек, которого ищет убийца, вы должны честно сказать убийце, что да, человек, которого вы ищете, находится у меня дома — а там уж будь что будет.
Хоть все это звучит смешно, это не повод высокомерно хихикать над Кантом. Кант на то и великий мыслитель, что держался своих принципов последовательно и не допускал жалкой эклектики. Проблема в том, что разделенные миры природы и свободы никак не хотели сочетаться.
Но в любом случае — одна из важнейших заслуг Канта в этике состоит в том, что он наглядно показал проблему соотношения мира природы и мира свободы. Решить удовлетворительным образом он ее не мог, но главное было сделано — вопрос был поставлен во всей своей остроте.
Фихте не так много внес в разработку этической проблематики, а юный Шеллинг вообще особо этим не интересовался. По-настоящему эстафету от Канта принял Гегель.
Гегель: человек по природе зол, но добр по своей истинной сути
Первая заслуга Гегеля состоит в том, что он привнес в вопрос соотношения природы и свободы историчность.
«Существуют законы двоякого рода: законы природы и законы права. Законы природы абсолютны и имеют силу так, как они есть: они не допускают ограничения, хотя в некоторых случаях могут быть и нарушены. <…> Правовые законы — это законы, идущие от людей. Внутренний голос может либо вступить с ними в коллизию, либо согласиться с ними. Человек не останавливается на налично сущем, а утверждает, что внутри себя обладает масштабом правого: он может подчиниться необходимости и власти внешнего авторитета, но никогда не подчиняется им так, как необходимости природы, ибо его внутренняя сущность всегда говорит ему, как должно быть, и он в себе самом находит подтверждение или неподтверждение того, что имеет силу закона».
Здесь важно выделить то, что человек не подчиняется праву так, как оно дано, налично. Человеческий дух противопоставляет сущему должное и меняет сущее так, чтобы оно пришло в соответствии с должным. Это исторический процесс, в котором человечество меняет условия своего существования, в том числе и право.
Право здесь нужно понимать как не то или другое юридическое позитивное право, а право как идеал, к которому человечество движется медленно, извилисто, но верно. «В праве человек должен найти свой разум» — и он ищет его, преодолевая неразумность той или иной ступени развития права. Так, от абстрактного права, которое, по Гегелю, начинается с права частной собственности, история двигается к нравственности, венцом которой является государство.
Гегеля за его восхваление государства часто записывают в профашисты, что не только неверно, но и весьма тенденциозно. Если мы внимательно и непредвзято рассмотрим мысль Гегеля, то увидим, что гегелевское государство — не эмпирическое.
Это идеальное государство, где законы соблюдаются не потому, что есть репрессивный аппарат принуждения, а потому, что они разумны и принимаются разумными людьми как свои собственные законы.
Иван Ильин, который и правда имел симпатии к фашизму, мог бы попробовать заручиться поддержкой гегелевского авторитета, но нашел в себе достаточно научной объективности, чтобы этого не делать. Он прямо признал, что гегелевское государство — вообще не государство в нашем обычном понимании. Это скорее свободная ассоциация граждан, где частный интерес находится в гармонии с всеобщим и поэтому такая ассоциация просто не нуждается в аппарате принуждения, коим являются все известные нам государства.
Здесь мы подходим к важному пункту. Для Гегеля человек по природе зол, но это заключение основано не на эмпирическом подсчете злых людей или мизантропии, а вытекает из его отношения к природе.
В природе господствует стремление к обособлению и распаду, животный эгоизм, поэтому по природе своей человек зол.
Не случайно Гегель называет гражданское общество «духовным царством животных». Для него господство частной собственности, при котором атомизированные индивиды сражаются за свои корыстные интересы, — не более чем повторение царства зверей, только на более высоком уровне.
«От человека, который считается добрым, мы по меньшей мере требуем, чтобы он сообразовался со всеобщими определениями, законами. Природность воли — это эгоизм воли, отличный от всеобщности воли и противоположный разумности воли, поднявшейся до всеобщности. Это зло, персонифицированное [столь] всеобщим образом, есть дьявол».
Единичное, восставшее против всеобщего, есть зло. По Гегелю, это восстание необходимо, чтобы человек мог отделиться от всеобщих законов природы, противопоставить себя им, но также необходимо восстание против этого восстания, первоначальный эгоизм должен быть преодолен, и общество должно стать обществом в своем собственном смысле, то есть ассоциацией людей, основанной на всеобщности нравственности.
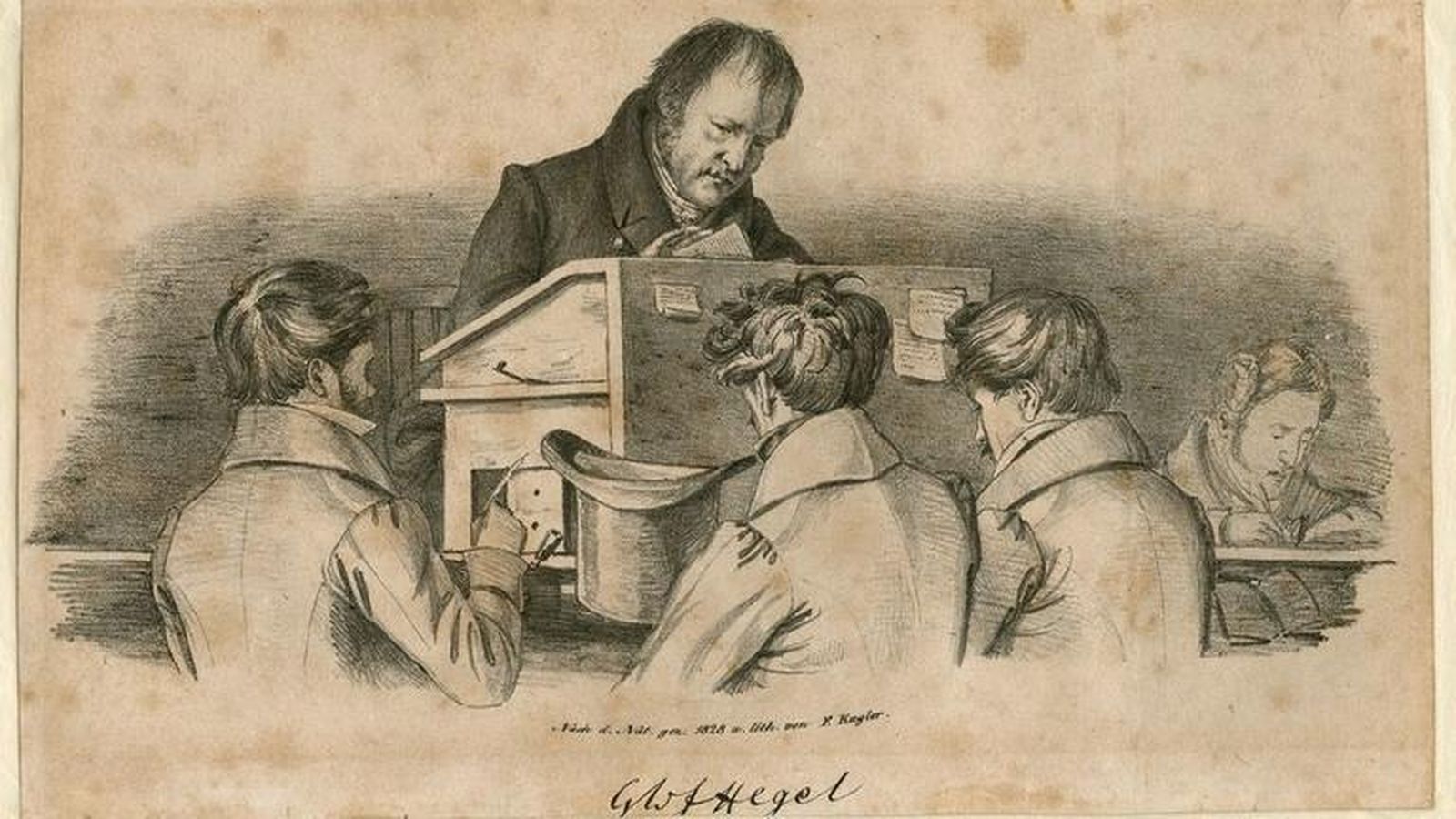
По Гегелю, человек духовен потому, что он в себе есть дух, свобода. Природе здесь уделено довольно жалкое место / Георг Вильгельм Фридрих Гегель и студенты / Литография Франца Теодора Куглера, 1828 / DLA Marbach
Заметим, что, по Гегелю, природа человека двойственна: человек есть природное, материальное существо, и это есть его злая сторона, которая ведет к эгоизму.
«Сказать, что человек по природе добр, — значит, по существу, сказать, что человек в себе есть дух, разумность, создан по образу и подобию бога, — бог же есть добро, а он в качестве духа есть зеркало бога, он есть добро в себе», — это вторая часть двойственности — дух, и только дух есть свобода и всеобщность, именно за счет того, что человек духовное существо, он может преодолеть свои чисто природные определения и возвыситься до нравственных.
Но здесь и кроется главная проблема. По Гегелю, человек духовен потому, что он в себе есть дух, свобода. Природе здесь уделено довольно жалкое место. Она имеет некоторые определения духовности только потому, что она есть инобытие духа.
Выходит, что природа есть только опосредующее звено между духом (Абсолютным) и духом (человеческим).
Подобно известной формуле товар — деньги — товар, мы можем вывести формулу Гегеля: Дух — Природа — Дух. Гегель продвинулся очень далеко по сравнению с Кантом, но, если смотреть глубже, напряжение между миром природы и миром свободы все же осталось.
Гегель так же, как и Кант, столкнулся с дуализмом мира природы и мира свободы. Казалось бы, Дух в гегелевской философии познал сам себя, и всё, конец истории. Но где нравственное государство, в котором частное и общее примирены? Нет его, есть только убогое государство Пруссия, которое по видимости стоит над борющимися классами. Его-то Гегель и объявил с тоски воплощением нравственной идеи. Этого ему не могут простить до сих пор.
Итак, Гегель лишь по видимости примирил мир природы и мир свободы. После Гегеля, как известно, был Маркс, который поставил первого «с головы на ноги», открыв метод исторического материализма. Только этот метод и может решить проблему природы и свободы по-настоящему. Однако нельзя сказать, что это решение есть в развернутом, эксплицитном виде.
Рассмотрение природы приматов позволяет понять, что выбор между добром и злом не иллюзорен. Несмотря на детерминированность свободы воли, человек всегда может выбрать большую или меньшую степень добра или зла. С одной стороны, это не дает снять с конкретного индивида всякую ответственность по принципу «это не я, это обстоятельства такие». С другой стороны, такое рассмотрение не делает эту ответственность чрезмерной, абсурдной. В каждой ситуации есть возможность, пусть и очень приблизительно, зафиксировать ту степень свободы выбора, что была дана индивиду.
Назад на грешную землю. Как мы стали духовными обезьянами
Сколько бы мы ни придумывали себе благородного происхождения, но брутальный факт состоит в том, что с обезьянами предок у нас общий. И деться нам от этого факта некуда. Но как мы стали духовными обезьянами? Моральными обезьянами? Обезьянами, которые бьются над вопросом, как у них получилось быть именно такими, «странными» обезьянами?
Нравственный закон в нашей груди — это все же некоторое чванство перед обезьянами. У нас его там нет, как и у них. Но живем мы под одним звездным небом, поэтому, может быть, нам не стоит слишком важничать и хотя бы на минуту предположить, что обезьян от нас не разделяет непреодолимая пропасть и что-то похожее на нравственность у них может быть?
Вааль в начале книги описывает интересный случай: о стекло вольера обезьяны по имени Куни ударился скворец и упал:
«Подобрав оглушенную птицу, Куни осторожно попыталась поставить ее на ноги. Скворец не пошевелился, и она легонько его подбросила, но бедняга едва трепыхал крыльями. Тогда, с птицей в руке, Куни залезла на верхушку самого высокого дерева и обхватила ствол ногами, высвобождая руки, чтобы держать скворца. Она осторожно расправила ему крылья, взявшись за их кончики обеими руками, и только потом направила птицу, словно маленький игрушечный самолетик, в сторону стенки вольера. Но бедняге не хватило пространства, и он приземлился на краю рва. Куни спустилась и долго стояла, наблюдая за скворцом и защищая его от любопытного обезьяньего детеныша. К концу дня оправившаяся птица благополучно улетела».
Вааль из этого наблюдения делает интересные выводы: обезьяны не только способны понимать потребности чужого им вида, но и способны к эмпатии. Эту способность он подтверждает другим, еще более ярким примером:
«Уже в 1959 г. появилась статья с провокационным заголовком „Эмоциональные реакции крыс на боль других“, в которой было показано, что крысы переставали нажимать на рычаг, чтобы получить пищу, если тот же рычаг запускал ток в соседнюю клетку, где сидела другая крыса. Почему крысы не продолжали просто получать пищу, игнорируя другое животное, подпрыгивающее от боли при ударе электрическим током? В классических экспериментах (которые я не хотел бы повторять по этическим соображениям) макаки показали даже бóльшую сдержанность и контроль, запрещающий это действие. Увидев, что всякий раз, когда тянешь за рычаг, чтобы получить пищу для себя, соседку бьет током, одна обезьяна воздерживалась от этих действий в течение пяти дней, другая — двенадцати. Эти обезьяны буквально морили себя голодом, чтобы не причинять боль другим».
Мы не знаем, как именно сформировалась эмпатия у обезьян и даже крыс. Это еще неисследованная тема, но она сформировалась, с этим трудно спорить. Скорее всего, исследователи найдут много случайных, лишенных всякой духовности причин. Говоря философским жаргоном — контингентных фактов. Пусть так. Но тем не менее это доказывает, что зачатки того, что мы принимаем за наше чисто духовное явление, возникают уже у животных. То есть Гегель в каком-то смысле ошибался.
Эгоизм, обособленность, частичность — это не тотальные характеристики животных.
В этом мире случайности и жесткой запрограммированности инстинктами может возникать если не всеобщность, то нечто выходящее за пределы не только особи, но и рода. Ведь обезьянка Куни как-то сумела поставить себя на место птицы, понять, что ей нужно. Мы не знаем, насколько сильно закрепляются подобные феномены в животном мире. Но точно можно сказать, что человеческий род способен закреплять раз появившиеся вещи надолго, если не навсегда.
Мы очень любим рассуждать, что альтруизм — это выдумка, на самом деле все мы более или менее разумные эгоисты, а альтруизм — просто лицемерие, тонкий налет цивилизации. Вааль изящно рушит это наше представление о себе:
«А если поскрести бонобо, обнаружится ли в нем лицемер? Мы можем быть вполне уверены, что пресловутые тезисы „теории тонкого налета цивилизации“ относятся только к людям. Сложно предположить, что животные морочат друг другу голову. Вот почему результаты исследования человекообразных обезьян настолько важны в дискуссиях о природе человека. Если оказывается, что эти существа, пусть изредка, но все же бывают не такими жестокими тварями, как их изображают, представление о доброте и дружелюбии как о чисто человеческом изобретении начинает разрушаться».
Можно добавить, что теория тонкого налета цивилизации и к людям не относится. Если альтруизм, эмпатию, дружелюбие и другие черты мы разделяем с животными, то слой не такой уж и тонкий.
Вернемся к мысли, которая была в начале статьи: культура есть возделанная природа. Гегель и Кант из-за своего идеализма не могли сделать решительных выводов из этой мысли, хотя, безусловно, ее понимали. А выводы могут быть такими: наша двойственная природа обусловлена тем, что в самой природе есть двойственность, именно из природы рождается то, что мы называем добром и злом. Вааль рассказывает не только о добре у обезьян, но и о случаях чрезмерной агрессии, коварности, которой позавидовал бы сам Макиавелли, даже садизме.
Так вот, из природы возможна свобода потому, что она сама предоставляет нам выбор, развилку.
Мы можем культивировать в себе эгоизм, жестокость, агрессию и стать хуже всякого животного. Но природа также предоставляет выбор культивировать и нечто противоположное.
Мы можем быть духовны в самом серьезном и положительном смысле этого слова, но опору в этом дает природа. Мы можем выстроить что-то похлеще «духовного царства животных», к которому так презрительно относился Гегель, но у нас есть вполне осязаемый шанс и на что-то лучшее. Мы запрограммированы и генами, и социальной средой (что в широком понимании можно отнести к природе как к не-свободе) и много чем другим. Но удивительно, посредством этой запрограммированности мы можем встать выше этой же самой запрограммированности, обезьяны не дадут соврать! То, что поначалу было инстинктивным, слепым, неосознанным, может быть прояснено и закреплено. Либо, наоборот, ликвидировано.
Получается, оппозиция «природное — духовное» не носит абсолютного характера. Не всё природное обязательно плохо. И не все духовное хорошо, ведь какой-нибудь изысканный садизм — весьма тонкий духовный продукт. Вопрос в содержании той или иной природности и духовности. Для идеалистов вроде Канта и Гегеля природа, по большому счету, наш враг, с ней нужно бороться, ее нужно преодолевать. Но мы уже увидели, к каким парадоксам ведет такая точка зрения. Идеализм притесняет природу, и природа мстит за себя. Материализм, если он не хочет скатиться в плоский детерминизм, иррационализм, релятивизм, социал-дарвинизм и прочие нехорошие измы, должен усвоить одну важную мысль: природа несет в себе зачатки свободы, а свобода тогда свобода, когда опирается на лучшее, что есть в природе.
Автор: Игорь Саблин