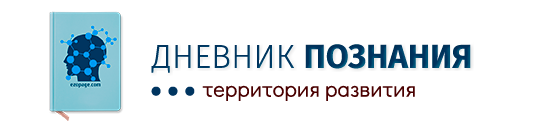Какие формы принимала идея апокалипсиса в разные исторические эпохи — от библейских времен до современности? Клэр Колбрук — профессор философских наук им Эдвина Эрла Спаркса в Пенсильванском университете, автор книги Death of the Posthuman: Essays on Extinction (2015) считает, что сегодня над нами довлеет страх особого, «человеческого» апокалипсиса и утраты того, что делает нас людьми. Но когда он возник? Какую роль в этом сыграла эпоха Просвещения? Как конец света, изображаемый в современных фильмах, отражает потребность в новом образе жизни, альтернативном привычному сверхпотребительству? И почему, возможно, «наш мир», в котором мы наслаждались эпохой всемирного благодушия, глобальной справедливости и безопасности только за счет других, заслужил свой Армагеддон? Публикуем перевод ее статьи для Aeon.

Конец света – растущая индустрия. Предчувствие Армагеддона фактически разлито в воздухе – от сайтов «выживальщиков» и «препперов» до новых академических дисциплин («исследования катастроф», «исследования вымирания»). Человеческая уязвимость в моде.
Паника касается не столько цивилизационных угроз, сколько экзистенциальных. Помимо апокалиптических провозглашений массового вымирания, изменения климата, вирусных эпидемий, глобального коллапса и истощения ресурсов, нас, похоже, тревожит потеря тех качеств, которые делают нас людьми. Нам говорят, что социальные сети угрожают нашей способности к эмпатии и подлинному общению. И вот появляется катаклизмическое порно и апокалиптическое кино, в котором зомби, вампиры, генетические мутанты, искусственный интеллект и инопланетные захватчики настолько похожи на человека, что заставляют нас усомниться в самом этом понятии.
Как мы дошли до той исторической точки, в которой человечество технологически развито, как никогда прежде, но, несмотря на это, чувствует себя все более хрупким? Ответ можно найти в долгой истории того, как мы понимали сущность «человеческого» и того, как эта категория укреплялась, питаясь фантазиями о собственной гибели. Страх человеческой хрупкости восходит еще к Древней Греции и платоновскому мифу о пещере, в которой люди заточены и могут увидеть только тени настоящих сущностей, танцующие на каменных стенах. Мы – пленники – стремимся повернуться к свету и увидеть источник правды и мы же сопротивляемся этому стремлению. В другом платоновском диалоге, «Федр», Сократ опасается, что сам инструмент знания – письмо – может отучить нас от запоминания и самостоятельного мышления. Будто определяющий нас дар разума – это также то, что мы в любой момент можем потерять и, более того, то, чего мы сторонимся.
Эта парадоксальная логика утраты, в которой мы ценим то, что наиболее всего рискуем потерять, имеет отношение к нашим сегодняшним проблемам. Только столкнувшись с тем, насколько мы близки к разрушению, мы можем начать делать что-то; только приняв уязвимость человечества как такового, мы можем получить надежду на создание справедливого будущего. Во всяком случае, так утверждают жрецы поп-культуры, политической теории и современной философии. Экологическое разрушение это та сила, которая, наконец, заставит нас сделать что-то с капиталистическим насилием, как утверждает Наоми Кляйн в своей книге «Это меняет все: капитализм против климата» (2014). Философ Марта Нуссбаум давно утверждает, что попытки защитить людей от хрупкости и уязвимости лежат в основе политических иерархий от Платона и до современности; только осознав ценность нашей телесной жизни, эмоций и страхов, связанных с бытием человеческого существа, мы можем понять и преодолеть расизм, сексизм и другие проявления иррациональной ненависти. Беспорядок и потенциальные разрушения – это, на самом деле, возможность стать крепче, утверждает Насим Николас Талеб в «Антихрупкости» (2012), а в «Благодарю за опоздание» (2016) колумнист Нью-Йорк Таймс Томас Фридман заявляет, что сегодняшняя неимоверная «эпоха ускорения» – это возможность взять перерыв. Тем временем Институт будущего человечества Оксфордского университета проводит исследования, направленные на предотвращение экзистенциальных катастроф, одновременно работая над совершенствованием технологий и «суперинтеллекта».
Именно здесь мы можем обнаружить тесную связь между хрупкостью и мощью. «Человечество» – солидное, но шаткое понятие. История показывает, что чем больше мы определяем «Человека» как субъекта разума, совершенствования и прогресса, чем больше мы настаиваем на глобальном единстве под куполом предположительно всеобщего братства, тем сложнее представить другой способ существования в качестве человека. Апокалипсис обычно представляют как сведение человечества к голой жизни – хрупкой, открытой ко всем формам эксплуатации и беззаконного применения власти. Но эти антиутопические сценарии будущего ничем не лучше тех условий, в которых большая часть человечества и так живет в повседневной реальности. Под «концом света» мы чаще всего имеем в виду конец нашего света. При этом мы не задаемся вопросом, кто входит в понятие «мы», чего стоит существование «нашего света» и, прежде всего, есть ли у нас на него право.
У рассказов о конце времен длинная история
– от библейской эсхатологии до средневековых сюжетов о чуме. Но наш страх особого, «человеческого» апокалипсиса начинается с эпохи Просвещения в 18-ом веке. Это был интеллектуальный источник современного понятия «человечества» – сообщества ближних, объединенных общим обладанием разумом и правами. Этот гуманистический идеал продолжает питать прогрессистский активизм и демократический дискурс и сегодня. Тем не менее имеет смысл вернуться на шаг назад, к более раннему высказыванию Рене Декарта – «Я мыслю, следовательно существую» – и спросить, что позволило изолированному Я уйти от мира и посвятить сочинения, чтение и красноречие защите изолированного и беспримесного эго. Или переместиться на несколько веков вперед, в 1792-ой и рассмотреть, откуда у Мэри Уоллстонкрафт появилось время изучить права мужчин и после этого потребовать прав для женщин.
Прозаик Амитав Гхош исчерпывающе отвечает на этот вопрос в своем исследовании глобального потепления «Великое помешательство» (2017). По его словам, колонизация, империя и изменение климата неразрывно связаны как практики. Ресурсы того, что стало Третьим миром, были необходимы для создания комфортного существования современного среднего класса, но эти ресурсы не могли быть доступны для всех:
«…те способы жизни, которые делают возможной современность могут практиковаться только меньшинствами…Каждая семья мира не может иметь два автомобиля, стиральную машину и холодильник – не из-за технических или экономических ограничений, но потому, что мир бы задохнулся от этого».
Гош отвергает один из важнейших аспектов человеческой истории: представление о том, что она должна идти по пути прогресса и инклюзивности, пока выгоды не будут доступны всем. Я бы добавила еще одну деталь в этот непопулярный сюжет: просвещенческая концепция прав, свобод и погони за счастьем просто не была бы представимой, если бы Запад не наслаждался праздностью и технологической изощренностью, обеспечивающими существование все более либерального среднего класса. Установление базовых человеческих прав могло стать всеобщей моральной заботой только потому, что материальное существование современного человека становилось все более комфортным – во многом благодаря экономическим выгодам, полученным за счет завоеваний, колонизации и порабощения других. Было невозможно выступать против рабства и неволи (в прямом и переносном смысле), пока большая часть планеты не была подчинена ресурсодобывающей промышленности. Таким образом, права, предназначенные «для всех», опирались на пренебрежение тем фактом, что столь благополучные условия были достигнуты ценой жизни других людей и не-людей. По-настоящему всеобщее обеспечение безопасности, достоинства и прав осуществилось лишь благодаря тому, что бенефициары «человечества» защитили собственный комфорт и статус, сделав тех, кого они считали менее людьми, еще более хрупкими.
В появлении гуманизма восемнадцатого века интересно не только то, что для него требовалась история подчинения, которую он позже отрицал. Интересно также то, что сама идея «человечества» продолжала находиться в связи с этим подчинением. Потратив богатства, извлеченные из тел и территорий «других», западная мысль начала расширять категорию «человечества», захватывая с помощью аболиционизма, освобождения женщин и движения за всеобщие избирательные права все больше тех, кто когда-то был исключен. Странным образом эти изменения напоминают заявления сегодняшних техно-миллиардеров, которые, извлекши невообразимую прибыль из механики глобального капитализма, говорят теперь о необходимости безусловного базового дохода, нужного для сглаживания последствий автоматизации и искусственного интеллекта. В конце концов, господство может позволить свое исправление только с позиций праздности.
Но есть нюансы. Несмотря на то, что «человечность» стала неотъемлемой и неотчуждаемой, некоторые все равно могли «реализоваться» как люди в большей степени. Пока человечество расширялось, стремясь захватить уязвимых, риск того, что «мы» соскользнем обратно в получеловеческое или нечеловеческое состояние казался реальным больше, чем когда бы то ни было, и поэтому требовались все более возвышенные и четкие концепции «человека».
Эту динамику можно проследить на примере дискуссий о рабстве восемнадцатого века. На тот момент практика стала отвратительной не только потому, что она дегуманизировала рабов, но и потому, что сама возможность порабощения некоторых людей, не видящих своего потенциала как рациональных субъектов, считалась пагубной для всего человечества. В «Защите прав женщины» Мэри Уоллстонкрафт сравнивала положение женщин с рабским, но настаивала на том, что рабство не позволяет никому быть настоящим господином. Порабощая других, «мы» становимся более грубыми и примитивными, утверждала она.
«Женщины могут быть удобными рабынями, – писала Уоллстонкрафт, – но рабство будет неумолимо оказывать воздействие, принижая как господина, так и его жертву».
Эти утверждения подразумевали, что право на свободу было естественным состоянием «человека» и что настоящие рабство и неволя больше не являлись серьезными угрозами для «нас». Когда Жан-Жак Руссо утверждал в «Общественном договоре» (1762), что «человек рождается свободным, а между тем всюду он в оковах», он точно волновался не за тех, кто действительно был в оковах; схожим образом и «оковы духа» Уильяма Блейка подразумевают, что настоящий ужас – это не физическое заточение, но способность поработить самого себя, не сумев мыслить.
Я, разумеется, не утверждаю, что в рабстве есть нечто естественное или неизбежное. Я говорю лишь о том, что те же авторы, которые выступали против рабства, которые утверждали, что рабство не подходит человеку по его природе, тем не менее воспринимали противоестественную и чудовищную возможность рабства как чересчур близкую для людей в их подлинном состоянии. Но не открытость миру в свете собственной уязвимости, а противоположная тенденция стала преобладающей. Именно потому что люди могут не справиться с реализацией собственного рационального потенциала и оказаться «всюду в оковах», они должны тщательно обеспечивать безопасность своего будущего. «Человечество» следовало беречь и защищать именно потому, что оно было так удачно приподнято над уровнем голой жизни. Опасность скатывания к «человеческому» превратилась в силу, которая укрепляла и расширяла эту категорию. И поэтому рабство воспринималось не как историческое состояние некоторых людей, подчиненных грубыми, бесчеловечными и превосходящими силой чужаками; это была постоянная внутренняя угроза, призрак хрупкости, оправдывавший жажду власти.
Отличаются ли истории, которые мы рассказываем себе сегодня?
Кино – занятный барометр культурных настроений. В 1970-ых рутинной чертой фильмов-катастроф было присутствие локальных бедствий вроде кораблекрушений, горящих небоскребов и акул-людоедов. Теперь мы переживаем за все человечество. Нам угрожают не отдельные случаи, но люди. Пустошь «Интерстеллара» (2014) лишена ресурсов из-за сверхпотребления; сведенный к рабскому существованию мир «Элизиума» (2013) – результат видовой борьбы, в ходе которой некоторые получают все сохранившиеся ресурсы, а те, кто остался на Земле, наслаждаются жизнью полной кабального труда. Конец света настолько стал частью нашего культурного воображения, что, развлекая себя, мы думаем не о том, случится ли он, а о том, как он случится.
Но, если приглядеться, то можно увидеть, что большинство сюжетов о конце света заканчиваются как сюжеты о его спасении. Поп-культура, может, и увеличила масштабы и интенсивность катастроф, но компенсировала это более уверенными и законченными хэппи-эндами. В фильме «Интерстеллар» противостояние передового духа исследования космоса и жалкой, еле выживающей бюрократии, находит свою кульминацию в спасении мира отставным космонавтом. Даже мрачная киноверсия (2009) романа Кормака МакКарти «Дорога» (2006) заканчивается тем, что маленький мальчик находит семью. Самые обескровленные, рабские, разрушенные и безжизненные ландшафты – это тем не менее возможность для «человечества» столкнуться с опасностью несуществования ради достижения более жизнерадостного будущего.
Эти фильмы указывают на потребность в новых образах жизни. В «Аватаре» (2009) милитаристский, грабительский Запад вторгается на планету Пандора, чтобы разрабатывать залежи «унобтаниума»; эти планы разрушают аборигены Нави, чье отношение к природе не присваивающее, а симбиотическое. Именно экологичная мудрость и гармоничность местных жителей приводят к победе над инструментальным разумом корыстных захватчиков. В фильме «Безумный Макс: Дорога Ярости» лишившийся ресурсов мир будущего контролируется хищнической, паразитарной, расточительной элитой. Спасением становится реконкиста группы экологически продвинутых, альтернативно мыслящих женщин, одаренных мифической мудростью, которая и делает возможным окончательную победу на своекорыстием тиранической семьи кровопийцев. Эти истории опираются на квази-туземные и феминистские образы сообщества, основанного на альтернативе сверхпотребительству; оба сюжета о катастрофе завершаются триумфом интуитивного, целостного способа существования над империализмом и милитаризмом. Они не просто преподносят пост-пост-апокалиптическое будущее в мажорных тонах, но делают это, апеллируя к образу более великодушного и экологически продвинутого человечества.
Эти фильмы будто нашептывают нам: посмотри на настоящее и то, что кажется безнадежной ситуацией — возможно, именно это на деле окажется шансом на улучшение. Тот самый мир, который, кажется, находится на грани уничтожения, оказывается в действительности миром возможностей. И снова самопровозглашенное всемирное человечество Просвещения – то самое человечество, что порабощало и колонизировало на основании того, что всем «нам» выгоден марш разума и прогресса, – начинает выглядеть одновременно хрупким и способным к нравственному искуплению. Похоже, мы считаем, что именно наша слабость дает нам право на окончательное господство.
Современная культура постапокалипсиса боится не Конца Света, но конца света – богатого, белого, праздного, процветающего. Западные образцы жизни зависят от того, что французский философ Бруно Латур называл «постепенно cформировавшимся набором неотвратимостей», требуя остальной мир жить в состоянии, которое «человечество» считает непригодным для жизни. И нет ничего более неустойчивого, чем существа, которые, сжавшись на небольшой части Земли, выкачивают ресурсы изо всех остальных мест, переводят туда свои отходы и насилие, а потом заявляют, что это и есть способ существования человека как такового.
Определить человечество как таковое, ограничив его этой конкретной формой человечества, значит воспринимать конец этого человечества как Конец Света. Если все, что определяет «нас», зависит от настолько сложного, экплуататорского, присваивающего способа существования, то, разумеется, упадок этого гиперчеловечества видится апокалиптичным событием. Мы говорим себе, что «мы» потеряли наш безопасный мир и скоро будем жить, как все те, кто платил за «наше» существование в качестве «человечества».
Урок, который я вижу в этом анализе, заключается в том, что этическая направленность хрупкости должна быть повернута вспять. Чем более неуязвимым и жизнерадостным человечество пытается стать, тем более уязвимым оно должно быть. Но вместо того чтобы смотреть на апокалипсис как на бесчеловечный ужас, мы должны понять, что «человечество» всегда перекладывало ужас на других. «Мы» наслаждались эпохой всемирного благодушия, глобальной справедливости и безопасности как общей целью только за счет усиления и создания крайне хрупких способов существования для других людей. Так что потенциально гальванизирующая катастрофа, которая должна подтолкнуть «нас» к защите нашей стабильности, – это не только то, что многие люди испытывают каждый день, но, возможно, и то, что не следует исключать из нашего видения будущего.
Вот почему современные истории о катастрофах все еще продолжают говорить о мире и людях, но это не Мир, а те, кто выжили – не «человечество». «Мы» человечества, «мы», видевшее себя одаренным благоприятными условиями, которые должны стать доступными для всех – это, на самом деле, наиболее хрупкое из исторических событий. Если сегодня «человечество» и начало ощущать беспрецедентную хрупкость, то это вовсе не потому, что незащищенное и уязвимое существование случайно и неожиданно ворвалось в историю стабильности. Скорее, это значит, что на то, что зовется «человечеством», лучше смотреть как на передышку и как на усиление неустранимой и всеобъемлющей человеческой хрупкости.