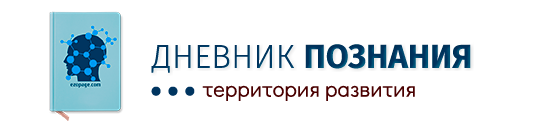Николай Кукушкин — нейробиолог, который работает и преподаёт в Нью‑Йоркском университете. Он изучает память, нервную систему и эволюцию. Недавно вышла книга Николая «Хлопок одной ладонью. Как неживая природа породила человеческий разум», в которой автор показывает, что мы были особенными на каждом повороте нашего эволюционного пути, и шаг за шагом воссоздаёт нашу историю: от неживой материи до человеческого разума.
Мы поговорили с Николаем об эволюции и мозге: выяснили, как появление речи повлияло на развитие человека, как работает память и почему мы помним дурацкие песни, но забываем о дне рождения друга. А также узнали, что можно понять о человеке, изучая моллюсков.

О работе нейробиолога и слизнях
— Что вы сейчас изучаете?
Я занимаюсь молекулярными и клеточными механизмами долгосрочной памяти. Это ближе к клеточной биологии, чем к традиционной нейробиологии, потому что обычно я работаю не с целыми организмами, а с отдельными клетками и нейронами или парой клеток, которые соединены между собой. Естественно, исследуя глобальные механизмы запоминания, которые применимы к человеку и остальным животным.
Меня интересует, как сигналы, получаемые нервными клетками, интегрируются в долгосрочный ответ — такой, как формирование долгосрочной памяти. Условно говоря, как клетка узнаёт, что что‑то повторилось несколько раз. Или как она узнаёт, что какой‑то из стимулов важнее, чем другой.
— Помните ли вы тот момент в жизни, когда решили посвятить себя науке?
Я родился в научной семье и рос с ощущением, что заниматься наукой естественно и очевидно. Я учёный уже в третьем поколении. Не было момента, когда на меня снизошло, что я хочу быть не космонавтом, а научным деятелем. Но бывало такое, что я всерьёз задумывался о чём‑то другом.
Например, после 9‑го класса я поступил в лицей при Первом Санкт‑Петербургском государственном медицинском университете. Тогда медицина меня увлекала и казалось, что этим я и хочу заниматься. Но кто меня всё-таки повернул из медицины или химии (все мои родственники — химики, я первый биолог в роду) — это моя учительница биологии Татьяна Викторовна Селеннова. Она молодая, стильная и темпераментная, нам хотелось быть на неё в чём‑то похожими.
Я понял, что биология — это не обязательно старички в пыльной ботанической лаборатории, которые рассматривают что‑то в микроскоп. Это может быть очень интересно и увлекательно. Поэтому я пошёл на биофак и с тех пор этим занимаюсь.
— А почему именно нейробиология? Чем вас так заинтересовал мозг?
То, что для меня значит биология, очень сильно менялось с течением времени. Когда я поступил на биофак, меня совершенно не интересовали животные, растения и эволюция. На первых порах хотелось заниматься чем‑то молекулярным, искать лекарство от рака. Однако обучение на биофаке так устроено, что нельзя просто выбрать: вот я хочу заниматься исследованиями рака и больше ничем.
На биофаке очень последовательно выстраивается цельная форма мышления биолога. Мы двигаемся от водорослей к позвоночным, потом всё это рассматриваем в контексте эволюции.
К концу четвёртого курса у нас есть картина мира — и дальше с ней можно делать что угодно.
Когда я стал заниматься наукой более профессионально, то в итоге пошёл в обратную сторону: от лекарства от рака до эволюции, животных и какому‑то единению с природой. Это дало осознание, что не всё, что было интересно на первых порах, обязательно будет интересовать меня всю жизнь.
В один момент у меня произошёл кризис научного направления. Я занимался клеточной биологией — это вроде так замечательно и интересно, — но перестал понимать, чего хочу в итоге.
Тогда я понял, что надо искать то, что может меня увлечь на так называемом духовном уровне. Я много писал и читал за пределами своей области: затрагивал темы от ботаники до нейробиологии. Так сложилось, что это направление стало для меня самым интересным.
Я стал искать лаборатории, где бы пригодились мои знания по молекулярной и клеточной биологии. И в то же время такие, где работа связана с эволюцией и памятью. Так я и оказался в лаборатории, где сейчас работаю. Для меня это был сознательный шаг в сторону от мейнстримовой науки.
Да и потом: кому не интересно, что происходит у них в голове?
— Вы изучаете нервную систему слизней. Почему именно слизни?
Аплизия — моллюск, которого ещё называют морским зайцем

Преимущество аплизии — в простоте нервной системы и рефлексов. С их помощью можно изучать вещи, которые не разглядеть у большинства животных. Ввести электроды туда, куда не получится, если работать с клетками позвоночных. Можно контролировать поведение моллюсков простейшими манипуляциями — вся «мишура» убрана, есть только самые глубинные соединения частей организма.
Меня привлекает в аплизии то, что большинство людей от неё, наоборот, отталкивает, — насколько она далека в эволюционном смысле от человека.
Конечно, всё зависит от задачи. Если цель работы приближена к человеку — например, вылечить болезнь Альцгеймера, — то здесь лучше подходят грызуны. Мы во многом очень близки. Мышей легко видоизменять: можно делать их трансгенными или искусственно активировать память. Однако стоит заметить, что для людей это работает не очень эффективно: у мышей болезнь Альцгеймера вылечивали тысячу раз, но результаты пока не очень легко переносятся на человека.
Если же задача — понять, как работает нервная система, откуда она взялась, в чём её смысл, то для этого нужен организм, который отдалён от нас. Сравнивая человека с ним, можно увидеть: вот эта штука специфична для нашего организма, а вот это — что‑то фундаментальное, оно сидит в корне этой нервной системы уже миллиард лет.
Меня не интересует физиология аплизии, мне не интересно знать, как себя чувствует улитка. Однако простота слизней позволяет мне изучать нервную систему в целом, без человека как объекта.
— Что в работе нейробиолога самое сложное?
Эксперименты. Нужно свыкнуться с идеей, что по умолчанию ничего не работает и так может продолжаться годами. В нейробиологии очень много того, что нужно делать руками и что требует месяцев или лет тренировки.
Любое неверное движение способно испортить весь эксперимент, над которым вы работали последние месяцы.
Также есть и эмоциональная составляющая. Очень сложно год долбиться головой об стену и не сойти с ума. У меня в жизни такое бывало неоднократно: над чем‑то работаешь несколько лет, а потом оказывается, что твоя работа никому не интересна, никто её даже не хочет читать. Потом нужно всё переделывать и ещё год заниматься тем, что может вообще не работать. Это эмоционально тяжело. С другой стороны, это закаляет, и, получив достаточно опыта, начинаешь к этому относиться немного спокойнее. Просто заранее знаешь, что существенная часть неимоверных усилий окажется в помойке.
Об эволюции и мемах
— Как появление языка/речи повлияло на эволюцию человека?
Все понимают, что язык играет принципиальную роль в возникновении человека. Но есть вопрос, над которым многие спорят и на который нет чёткого ответа: что было первым?
Есть несколько возможных вариантов. Может быть, сначала появился язык, и мы благодаря этому стали такими умными и цивилизованными. А может быть, мы развили неординарные способности и уже вследствие этого создали язык — способ коммуникации, который зависит от наличия очень сложной нервной системы. Это два крайних варианта, но мне кажется, что истина посередине.
Без очень сложного социального мозга невозможно представить появление чего‑то подобного языку. Но с другой стороны, однажды появившись, язык может влиять на генетическую эволюцию мозга — и наверняка так и происходило последние 200 тысяч лет.
Думаю, эволюция языка, человека и его мозга в частности — это замкнутый круг, самосбывающееся пророчество. Язык усложняется — мозг усложняется, язык усложняется ещё больше — и мозг соответственно.
Это похоже на коэволюцию цветковых и насекомых. Очевидно, что они эволюционировали вместе. Но кто был первым? Цветы подстроились под насекомых или насекомые — под цветы? Это не так принципиально. Важно, что когда они соединяются, то начинают вместе эволюционировать. То же самое, на мой взгляд, произошло с человеком и его языком.
— В лекциях вы рассказываете о нашем свойстве имитировать разные явления и людей. Что вы под этим имеете в виду? Каково эволюционное значение имитации для человечества?
Когда мы слышим слово «имитация», на ум приходит что‑то плохое: будто мы воруем, а не производим своё. Но имитацией можно назвать любое культурное явление.
Все представления о реальности мы получаем от других людей. Мы смотрим на окружающих, чтобы понять, как вести себя в обществе, как ходить на работу, сколько отдыхать, есть и спать. Это и есть имитация.
Свойство имитировать присуще не только человеку. Птицы учатся песням от своих родителей. Киты тоже учатся издавать свои звуки у окружения. А у обезьян имитация — это то, что мы называем обезьянничаньем.
В имитации состоит именно то зерно, которое не обязательно становится культурой, но даёт нам возможность построить культуру и язык.
Я думаю, способность к имитации связана с развитием нашего мозга, а именно его свойством моделировать и отражать действия и мыслительные процессы других людей.
— Мы имитируем в том числе много бесполезных вещей. Например, приём наркотических веществ, игры на телефоне или моду. Это значит, что мы пошли против эволюции?
Вопрос: эволюции чего? Наркотические вещества или игры в телефоне как раз очень точно встраиваются в человеческий мозг и обеспечивают именно то, что этот мозг хочет делать.
Нам обычно кажется, что эволюция — это единый процесс: происхождение жизни, потом обезьяны, потом пещерные люди, а теперь мы, современные люди с компьютерами и цивилизациями.
На самом деле, когда в эволюционном процессе мы доходим до человека, возникает принципиально новое направление эволюции, которое существует одновременно с древним генетическим эволюционным путём. Это эволюция культуры. Это передача знаний, мемов(Здесь и далее — термин, введённый Ричардом Докинзом, означающий единицу значимой для культуры информации.), идей от человека к человеку посредством мозга, а не с помощью копирования генов.
Мемы и гены развиваются очень похожим образом. Если немного осовременить формулировку Чарльза Дарвина, то можно сказать вот так: единицы информации, такие как гены и мемы, будут двигаться из прошлого в будущее в направлении наибольшей приспособленности.
Но наибольшая приспособленность означает разные вещи для генов и для мемов. Для генов это движение в сторону максимально эффективных организмов, которые имеют высокую вероятность передать гены из предыдущего поколения в следующее. Броня, зубы, долголетие — всё это может помогать генам двигаться из прошлого в будущее.
А мемы развиваются по другим законам. Они двигаются не из тела в тело, а из мозга в мозг.
Единственное, к чему стремится мем, — стать всё более и более желаемым для человека. Всё лучше и лучше встраиваться в запросы его мозга.
Поэтому движение мемов совсем не обязательно должно приносить нам пользу в биологическом смысле.
— То есть как эгоистичный ген, только эгоистичный мем?
Абсолютно верно. Это понятие как раз ввёл Ричард Докинз в книге «Эгоистичный ген». Там же он сравнивал движение гена с движением ещё одного типа информации, который назвал мемом.
Можно сказать, что наши идеи так же эгоистичны, как наши гены. Им совершенно всё равно, полезны они или не полезны. Их интересует только то, насколько они заразны. Насколько они привлекают людей.
О памяти и способах её улучшить
— Ранее в исследовании вы ставили под сомнение чёткое разделение памяти на краткосрочную и долгосрочную. Как всё-таки работает память?
Разделение долгосрочной и краткосрочной памяти — это вопрос терминологии. Разные лаборатории определяют эти вещи по‑разному: дискретно или разделяя на условные категории.
Основная идея нашей лаборатории, которую мы опубликовали несколько лет назад, в том, что расширение временной границы памяти — её фундаментальный механизм. Это не единственный переход из краткосрочной в долгосрочную, а наращивание всё более длительных изменений в нервной системе, которые и являются памятью.
Всё, что наш мозг получает из внешней среды, — это временные интервалы. На сетчатку падают фотоны, в ушах колеблются разные частоты воздуха.
С какой периодичностью и какие именно точки появлялись на сетчатке — в этом состоит память. Фундаментально память — это колебания гомеостаза. Когда в наш организм поступает сигнал, он колеблет какую‑то переменную в мозге. Любой сигнал — это волна. Это как будто отклонение, которое потом возвращается обратно к норме.
Допустим, несколько визуальных стимулов вызвали краткосрочное отклонение работы мозга. Встретившись с другим краткосрочным отклонением — например, от звукового стимула, — они вместе породили новую, более долгосрочную волну и стали частью памяти.
Такие превращения краткосрочных отклонений в долгосрочные происходят на огромном количестве уровней. Это пирамида, которая надстраивается сама над собой.
С точки зрения мозга нет двух типов памяти: краткосрочной и долгосрочной. Есть множество отклонений в работе мозга, которые в определённых комбинациях приводят к более и более долгосрочным изменениям.
— Давайте представим, что я пытаюсь выучить билет к экзамену. Что в это время происходит в моём мозге?
Первое, что происходит, — вы направляете внимание на этот текст, фиксируете глаза на странице. Визуальная информация начинает поступать через сетчатку в таламус, а из таламуса — в зрительные отделы коры. То есть сигнал из сетчатки передаётся всё выше и выше в мозг.
Когда он доходит до коры, то встречает обратный сигнал, который движется с передней части мозга, с префронтальной коры, где закодирована ваша мотивация читать учебник. Обезьяне вы просто так не объясните, почему нужно читать этот текст. У вас же есть идея, зачем вы это делаете и что хотите из этого извлечь. Эта идея проецируется из префронтальной коры в зрительную.
Я немного упрощаю, но суть в том, что есть визуальная информация, поступающая через глаза. И есть нисходящая — внимание, которое освещает эту информацию и извлекает из неё элементы, которые важны с точки зрения мотивации. Этот второй сигнал регистрирует то, что вы считаете важным, и игнорирует то, что кажется неважным. Два сигнала взаимодействуют друг с другом, между ними устанавливается синхрония.
Эта ментальная конструкция транслируется в гиппокамп — придаток коры больших полушарий, который отвечает за эпизодическую память. Эпизодическая память — это сочетания разных отделов коры, которые были активны в определённый период времени. Когда с вами что‑то происходит, у вас активны слух, зрение, обоняние — всё это связывается гиппокампом в цельную структуру и закладывается в нём единой «гиперссылкой».
Когда вам нужно вспомнить, что вы прочли в учебнике, префронтальная кора посылает запрос в гиппокамп. И он воспроизводит то состояние, в котором префронтальная кора была в момент запоминания — во время чтения.
Получается, что память состоит из фиксации синаптических соединений и их относительной силы в гиппокампе.
— Что в большей степени влияет на запоминание? Мотивация?
Очень сложно отделить мотивацию от внимания. Это разные названия для единого процесса в мозге, который необходим для запоминания.
Эпизодическая память действительно зависит от мотивации и, как следствие, от внимания, которое направлено на запоминание. Я как‑то вывел уравнение: память = значимость × повторение. Это условность, но она отражает принципиальные факторы запоминания, которые максимально универсальны и применимы к большому количеству видов памяти у разных животных.
Значимость может физически выражаться как всплеск нейромодуляторов — дофамина или норадреналина, которые вырабатываются мозгом, когда вы обрадовались или испугались. Условно говоря, дофамин поступает в гиппокамп, пока там формируются синаптические контакты, и усиливает их образование. Поэтому, если вам интересно то, что вы читаете, если у вас есть мотивация, то гиппокампальное запоминание будет работать лучше.
Повторение тоже одно из фундаментальных свойств памяти. Если что‑то повторяется с регулярными промежутками времени, то оно будет иметь больший эффект. Это верно даже для существ, у которых нет нервной системы. Бактерии могут запоминать вспышки света с регулярными промежутками и реагировать на них, как если бы у них формировалась память. В повторении есть что‑то совершенно глобальное в эволюционном смысле.
— Вы, наверное, помните, как в школьные времена учили стихи: вечером много раз повторяем, ложимся спать, наутро можем рассказать стих на память. Как сон влияет на запоминание?
Это абсолютно логичная методика. Я неоднократно убеждался, что учить перед сном — это максимально эффективный способ запоминания. Здесь действуют два фактора: повторение и то, что оно происходит именно перед сном.
Нейробиологи согласны, что фундаментальная функция сна тесно связана с памятью. Но как именно — пока не очень понятно.
У всех живых существ есть медленный сон. А быстрый сон — это небольшая надстройка над медленным, которая характерна исключительно для нас, млекопитающих. И, может, других позвоночных.
Во время быстрого сна мы видим сны, и они, по всей видимости, помогают нам запомнить некоторые вещи. Сон — это имитация бодрствования. Пока мышцы тела отключены, мозг берёт разные куски памяти и комбинирует между собой. Смотрит, что получилось, и если вдруг что‑то полезное срослось, то это можно и запомнить.
Медленный сон, по‑видимому, нужен для забывания. Во время бодрствования часть синапсов в мозге усиливается, часть ослабляется, но усиление преобладает над ослаблением. Работая мозгом, мы толкаем его к большей и большей силе синапсов. Продолжаться так до бесконечности не может, это состояние должно компенсироваться. Предполагается, что медленный сон — возврат к балансу.
Сон — универсальное явление в царстве животных, что само по себе парадоксально, ведь он очень опасен: мы отключаемся от мира на значительный промежуток времени и совершенно беззащитны перед хищниками. Если бы можно было избежать сна, то эволюционно мы бы точно это сделали. Получается, сон нам обязательно нужен.
— Почему мы помним слова дурацкой песни, которую услышали сто лет назад, и забываем про день рождения лучшего друга? Как это работает?
Понятно, что день рождения друга для нас важнее, чем песня, которую когда‑то услышали. Но это совсем не значит, что наш мозг считает так же. Для него — одним другом больше, одним меньше, это не так принципиально. А вот шлягер, услышанный в пятом классе, — это очень важно.
Конечно, мы были бы рады запоминать социально важные вещи и не запоминать бесполезные. Но мы не всегда имеем контроль над тем, какие эмоции вызывают у нас разные стимулы.
Дело может быть ещё и в том, что песни и реклама нацелены на то, чтобы лучше запоминаться, вызывать у нас эмоциональную реакцию. Ну а день рождения — это просто факт, который сам по себе эмоциональной окраски не несёт. Все даты одинаковы, нам самим нужно создавать значимость вокруг конкретного числа, чтобы лучше его запомнить.
У меня такое ощущение, что 30% моего мозга отдано под рекламу из 90‑х. Я очень сильно переживаю по этому поводу. Могу воспроизвести в мельчайших деталях рекламу жвачки «Малабар», но при этом дни рождения запоминаются гораздо сложнее.
— А разве эволюционно не важнее запоминать социально значимые вещи, такие как даты?
Я совершенно согласен, значимые вещи запоминать эволюционно важнее. Просто эта важность может определяться разными отделами мозга. Я думаю, дело в том, что мы не эволюционировали с днями рождения. Календарь и даты, которые нужно помнить, — это недавняя культурная надстройка над жёстко прописанными в нашем мозге процессами. А вот реакция на звуки — это действительно то, что в нас заседает прочно.
— Можно ли улучшить память?
Внимание принципиально для запоминания, и его точно можно тренировать. А вместе с ним и память. К тому же память проще формировать не с нуля, а путём добавления элементов к уже существующей памяти.
Чем больше мы знаем, тем проще запоминать.
Интересуйтесь большим количеством вещей, наполняйте память — это поможет запоминать в дальнейшем.
О науке, современном образовании и книге
— Вы работали учёным в США, Великобритании и России. Чем принципиально западная наука отличается от российской?
Учёным в России я почти не работал. Учился, но это не совсем работа в лаборатории, и это было довольно давно. Я 12 лет не живу в России и думаю, что многое изменилось.
По ощущениям, главное, что отличает меня и моих однокашников с биофака от западных коллег — это тот факт, что нас учили понимать природу, а не работать биологами. В этом есть и плюсы и минусы.
На биофаке нас воспитывали в таком ключе, что беспокоиться о практических вещах, заниматься наукой ради того, чтобы что‑то создать или вылечить болезнь — это недостойно настоящего учёного. Мы занимаемся наукой как музыкой. Создаём знания в вакууме, понимаем природу как она есть, живём в хрустальном замке натурфилософии.
Ничего такого на Западе нет. Здесь это совершенно немыслимая позиция. Если ты учишься биологии, то именно тому, как быть биологом: как работать у станка, гонять гели («Гонять гели» — сленговое выражение биологов для «разделять и анализировать молекулы методом гелевого электрофореза») и анализировать результаты. Здесь всем плевать, какие у тебя представления о природе и каким образом ботаника с зоологией укладываются для тебя в единую картину.
Я не знаю ни одного западного нейробиолога, который бы мог нарисовать древо жизни. Но как можно изучать мозг, не зная о том, что населяет планету? Мне это кажется очень странным подходом, в котором меньше интеллектуальной работы. А меня в науке всегда привлекала именно она.
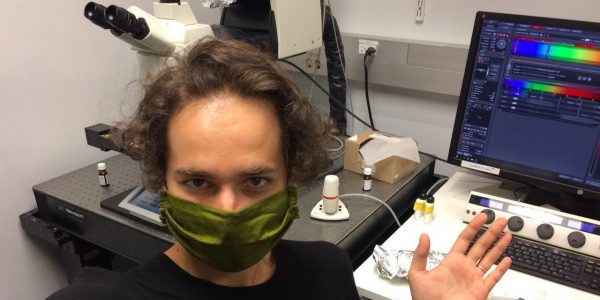
За годы работы в лаборатории я понял, что для продуктивной научной деятельности раз в полгода мне нужно поднимать голову от станка и задумываться о том, что я делаю. Если я так сориентируюсь, то на следующие полгода можно вообще обо всём забыть и монотонно проводить эксперименты.
Я очень благодарен, что Санкт‑Петербургский государственный университет дал мне такое образование, которое позволяет смотреть на всё с высоты птичьего полёта, менять область деятельности, если мне захочется.
— Такое отношение к науке — это то, чего не хватает в США?
Это то, чего не хватает мне. Как показывает практика, совсем не обязательно производить перевороты в понимании реальности, чтобы быть успешным учёным. Мне просто интересны перевороты в понимании реальности. И неинтересны практические аспекты работы биолога.
— Есть ещё что‑то, чего вам не хватает?
У меня очень критичное отношение к системе публикаций в современных научных изданиях. Это не связано с работой в США или другом месте. Просто такова реальность, что научная мысль руководствуется приоритетами трёх коммерческих журналов, которые решают, куда движется мировая наука. Это Cell, Nature и Science.
В Китае, например, это была особенно серьёзная проблема. Их государственная политика довела ситуацию до абсурда: профессор, который сидит на хлебе и воде, может сдать одну статью в Nature и получить 20 000 долларов в качестве премии. За такой мотивацией публиковаться именно в этих журналах теряется любая научная мысль. Это исключительно работа на журнал. И для многих возникает соблазн подделывать данные или недобросовестно их представлять.
Процесс приёма статей в эти журналы тоже далёк от идеала. Сейчас активно обсуждаются проблемы научного рецензирования, потому что из‑за коронавируса они вышли на поверхность. Мы увидели, какое количество шлака может попасть даже в уважаемое научное издание.
Обратная ситуация — то, что могло бы опубликоваться в тех журналах, не проходит просто потому, что у рецензента сегодня нога болит.
— Как вы относитесь к современному образованию? Какие проблемы видите и что бы улучшили?
Сложный вопрос. По поводу образования у меня тоже есть критика, но особых идей, как всё исправлять, к сожалению, нет.
У меня ощущение, что чем более массовым становится образование, чем оно честнее, тем оно рутиннее и тем больше основано на зубрёжке. Образование в прошлом было частным взаимодействием между студентом и преподавателем, который учитывает особенности личности ученика. Реализовать такое в масштабе миллионов просто невозможно.
Массовое образование, которое даёт всем одинаковые возможности, можно организовать только с помощью стандартизированных тестов. Но стандартизация ведёт к тому, что мы перестаём видеть глобальную картину и начинаем работать на эти тесты. Так же, как некоторые учёные работают исключительно на публикацию в Nature.
Это может приносить плоды, но лично мне кажется, что в этом чего‑то не хватает. Образование должно включать компонент, который не сводится к тестированию знаний. Это может проявляться через устное или хотя бы письменное взаимодействие, где у человека есть возможность формулировать свои мысли, обдумывать, применять их в жизни.
Я читаю лекции дважды в неделю трём секциям, и в каждой секции — от 20 до 25 человек, поэтому вполне могу знать всех студентов по именам. Я знаю, кому что будет интересно, от кого чего ожидать и кого куда толкать. Хотелось бы, чтобы этого было больше в образовании в целом.
— Недавно вышла ваша книга «Хлопок одной ладонью. Как неживая природа породила человеческий разум». Можете рассказать, о чём книга?
Книга не про науку, а про природу. Я упоминаю Дарвина, Хомского, Добржанского, но они не главные герои. Главные герои — медузы, динозавры, археи и папоротники.
Мне хотелось описать историю человека с самого начала. Обычно когда говорят «эволюция человека», то имеют в виду происхождение человека от обезьяны. Но это последнее мгновение в эволюционной истории.
Я ссылаюсь на книгу Юваля Ноя Харари «Sapiens. Краткая история человечества». Замечательная книжка, я её очень люблю, но она начинается с главы «Ничем не примечательное животное». Идея в том, что до появления языка мы ничем не выделялись, а потом его изобрели и всё стало замечательно.
Можно сказать, что моя книжка — это приквел или расширенная версия Sapiens, где я говорю, что мы были особенными задолго до происхождения от обезьяны, на каждом повороте нашей эволюционной судьбы. Мне хотелось проследить этот путь с самого начала: от неживой материи до момента, когда мы стали людьми, владеющими речью, думающими по‑человечески, решающими человеческие проблемы.
Если в книге написано про эпителий и АТФ, то она автоматически превращается в «науч», а если там ещё и шутки есть, то она также становится «поп». Соответственно, автор превращается в популяризатора науки, несёт свет научных знаний народу. У меня совершенно нет такой задачи. Просто за время работы в науке я узнал довольно много разных вещей. И каждый раз, когда я до них доходил, неизменно возникало ощущение «да что же мне раньше никто этого не сказал». Если бы мне кто‑то дал такую книгу, когда я только начинал заниматься биологией, то я бы умер от счастья.
— Можете привести ваши самые любимые моменты из книги?
Почему рыба умирает, если её вытащить из воды? Раньше я никогда об этом не задумывался.
Можно начать с того, чем отличаются лёгкие от жабр. Лёгкие — это мешок внутри тела, а жабры — тот же самый мешок, вывернутый наизнанку и торчащий снаружи. Так почему рыба умирает на воздухе? Казалось бы, кислорода на суше гораздо больше, чем в воде.
Оказывается, что рыбьи жабры настолько тонкие и мягкие, что если вытащить рыбу из воды, то они слипаются и поверхность всасывания кислорода резко уменьшается. Если расправить жабры, то рыба вполне могла бы жить и на воздухе.
Существует организм, у которого есть наземные жабры — это пальмовый вор, или кокосовый краб. Его жабры пропитаны хитином, поэтому они жёсткие и помогают кокосовому крабу спокойно дышать на суше. А вот морские огурцы могут дышать лёгкими под водой.
Ещё мне никто никогда не объяснял логику происхождения фотосинтеза.
Мне кажется, это самое главное событие, которое произошло в природе за всё время существования жизни.
Это увлекательная история о том, что сначала фотосинтез происходил на сероводороде. Потом перешёл с сероводорода на воду: у неё очень похожая молекула, которую при этом гораздо сложнее разломать. Когда бактерии научились разламывать молекулы воды, они перестали зависеть от источников сероводорода.
Суть в том, что переход с этого альтернативного вещества на воду означает, что фотосинтезировать можно вообще везде. Фотосинтез стал настолько эффективным и простым, что массово распространился по миру и в качестве побочного продукта стал производить кислород.
Мы привыкли воспринимать кислород как что‑то очень полезное. На самом деле это яд: кислород разрушает всё, с чем взаимодействует. Этим ядом заполнился мир, в результате погибла большая часть живых организмов на тот момент времени. Это явление называется кислородным холокостом. В то же время это дало толчок к возникновению эукариот, к более эффективному сжиганию топлива и получению энергии из питательных веществ. Без всего этого никогда бы не появились животные и человек.
Без фотосинтеза представить жизнь на Земле в её нынешнем виде просто невозможно. Хотелось, чтобы мне кто‑нибудь это объяснил в школе или институте.
— Что можете посоветовать читателям? Или, может, дадите какое‑то напутствие?
Купите мою книжку, это будет полезно для вашего мозга! Не дорос я ещё давать напутствия. Просто расслабьтесь, и всё будет нормально.
Лайфхакерство от Николая Кукушкина
Увлечения и отдых
Моя любимая форма отдыха — выезд на природу. Я нигде себя не чувствую настолько свободно и хорошо, как в лесу, горах или на море. Это для меня всегда самое приятное и ценное, что помогает накапливать материал для лекций, книг и всего остального. Я наблюдаю за природой вживую, соприкасаюсь с ней.
Ещё я очень люблю готовить, и у меня научный подход к кулинарному искусству. Мне интересно понять, каким образом продукты химически видоизменяются и как это можно делать более эффективно.
Всю жизнь я также увлекаюсь музыкой, это очень важный элемент моей жизни. Когда‑то баловался гитарой, даже играл в группе в студенческие годы, но всё это дела давно минувших дней.
Книги
Я практически не читаю художественную литературу. Исключение — «Война и мир» Льва Толстого, это моя самая любимая книга. Я её перечитывал пару лет назад, когда начинал писать свою.
Мне очень интересна историческая литература. Например, «Шёлковый путь» Питера Франкопана — про мировую историю с позиции Средней Азии, Персии и Ближнего Востока. Недавно прочитал книгу Уильяма Далримпла «Анархия», где рассказывается о Британской Ост‑Индской компании. Также советую «Ружья, микробы и сталь» Джареда Даймонда. Это впечатляющий труд, который произвёл на меня очень сильное впечатление и повлиял на мои представления о мировой истории и биологии. Сейчас читаю книгу Шошаны Зубофф The Age of Surveillance Capitalism о том, как за нами следят Google и Facebook*.
Из научпопа советую «Sapiens. Краткая история человечества» Юваля Ноя Харари и «Эгоистичный ген» Ричарда Докинза — классика, которую стоит знать людям, интересующимся биологией. Мой кумир в области философии сознания, эволюции и нейробиологии — Дэниел Деннет, рекомендую все его книги.
Фильмы и сериалы
Не смотрю ничего, что связано с Диснеем или супергероями. Ничего не имею против последних, но за последние годы я неоднократно пытался ими заинтересоваться, но в итоге ничего не вышло.
Одно из лучшего, что я посмотрел за последние годы, сериал Фиби Уоллер‑Бридж «Флибэг» («Дрянь»). Также советую первый сезон «Убивая Еву». Вообще, мне нравится то, что делает HBO. Я большой поклонник «Игры престолов». Рекомендую также сериал «Наследники» (Succession), «Последний танец» про Майкла Джордана и комедию «Кайф с доставкой» о торговце марихуаной, который развозит свой продукт по Нью‑Йорку.
Музыка
Последние лет десять я преимущественно слушаю хаус, техно и джаз. Мои любимые лейблы — Rhythm Section International, Banoffee Pies, Dirt Crew, Lagaffe Tales, Idle Hands. В Лондоне сейчас потрясающее время для джаза, советую, например, шоу Джайлса Питерсона на BBC6. Ещё сейчас много интересного в Южной Америке: Chancha Via Circuito, Никола Круз, Николас Джар — последний вообще мой кумир.
В моём беговом плейлисте в основном забойный постпанк вроде Gang of Four и The B‑52s. А ещё «Мумий Тролль» и «Мультfильмы», потому что для бега нет ничего лучшего, чем то, что ты слушал в 6‑м классе.
Если бы нужно было выбрать что‑то одно самое‑самое любимое, то, думаю, я бы выбрал румынское минимал‑техно. Послушайте, например, Петре Инспиреску или Rhadoo, вообще весь каталог легендарного лейбла arpiar. Как и гитарой, я когда‑то баловался диджейством и немного продюсированием, но сейчас предпочитаю слушать тех, кто это делает лучше меня.
Подкасты
Мне очень нравится 99% Invisible — это подкаст про дизайн и архитектуру. И The Anthropocene Reviewed, где разные аспекты нашей планеты обозреваются по пятизвёздочной шкале.